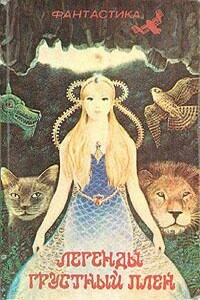Затерянный исток | страница 44
Оба сына часто задумывались о подноготной того поступка, когда их мать, едва оправившись от родов, ослабленная, не выспавшаяся, отправила первенца в лучшую жизнь, сунув его в руки подруги, покидающей столь неприветливую для собственных жителей землю. Но только сейчас благодаря брату Арвиум попытался проникнуться бездной ужаса и отчаяния, которое испытала его мать в то время. И не смог.
Арвиум в тот миг остановился на границе, за которой по отношению к Этане начиналась смесь зависти и отвращения. Но, отринув темные мысли, он принял брата. Все они, дети дворца, сироты, алкали семью, а не ее суррогат в виде Ои и Сина, которые носились со своим ненаглядным Галлой. Единственным среди них правильным отпрыском. Этана опасался, что Арвиум еще спросит о матери, а подбирать слова для ответа ему не хотелось. Но брат мрачно молчал.
Взыгравшие братские чувства были загадкой для Амины, которая пыталась убедить себя, что родственная связь невыполнима без общих воспоминаний об отчем доме. А сердце ее сжималось от сожаления, что брат из запрещенного края прибыл не к ней. У нее общих воспоминаний не было ни с кем, кроме Иранны, которую больше интересовал пустой щебет с прислужницами. Прикрывшись отстраненной констатацией очевидного, не имеющего отношения к тому, что чувствовали люди, Амина понимала, как люто братьям было не иметь рядом родной крови.
22
Сквозь отвесные клубы облаков проглядывала незамутненная ночь, одолевшая плавильню светила. Сумрак выдавал мерцания белых стен храма за раскидистой листвой. Куски перевернутых волн на небе пеной выстилали потухший небосвод с впрыснутым в них соком сумерек. Свежесть и влажность нежаркого, спавшего истомой опускались на плечи.
– Если боги жили рядом с людьми на земле… Почему их никто никогда не видел?
Лахама рассмеялась. Ее обычно стылая улыбка зажглась двусмысленностью недосказанного. В этот момент она стала более реальна, чем ориентированные на публику жесты, в которые, являясь их создательницей, сама уже не верила. Она видела, что в душе люди понимают абсурд и наигранность практикуемых обрядов. Но следуют им с упертой смесью обреченного долга и удовлетворения от эффекта одобрения. Следующая за унижением значительность перекрывала покалывающее неудобство глупости.
– К чему застилать себе глаза пеленой, когда за стенами храма целый мир? Не придуманный, хранящий столько таинств. Тебе в дыму жить легче?
– Что же, никто не верит?
– Делают вид, сами себя убеждают. Истово бросаются на тех, кто посмел усомниться. Успокаивают себя, черствеют взглядами, лишь бы дальше не баламутиться изнутри. Но ради своей выгоды они отрекутся от чего угодно, хоть до этого могли и казнить других за отрицание богов. Для человека нет ничего более святого, чем его выгода. А поведение других, отличающееся от его идеалов, заставляет его мир, соответственно, и его выгоду пошатнуться. Треснуть. И как же дальше будет жить человек с треснувшими понятиями? Правильно – обрушит свое негодование на тех, кто посмел вызвать смуту в нем. Большинству все равно, что копировать, потому что остро мыслить они не могут.