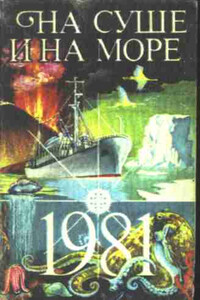Затерянный исток | страница 35
Когда испуганную Иранну доставили во дворец, всеобщая реакция обдала сдержанностью, граничащей с льдистостью. Даже Амина, единственная девочка, приближенная к трону и освобожденная уже от игр с Арвиумом и Галлой, обособившимися в мужском мире тренировок, не спешила принимать ее. Да и Иранну не прельщала отстраненность Амины, а фантазии не хватало для осознания, что таится за глазами, жадно впитывающими любое проявление человеческой жизни. Амина была неразговорчива и потому не поражала ни с первого, ни со второго взгляда. На островах юности лед между ними оттаял, Амина перестала бояться порой бездумной оголтелости дочери своей единоутробной сестры. А Иранна перестала расценивать неспешность тетки как забитость. Иранне было неинтересно разбираться в причинах нравов и явлений – она не прислушивалась к другим, а лишь читала им тирады, глубоко ранясь неодобрением в свою сторону. Столкновение с социумом – криво слепленными умозаключениями других, которые никак не сочетались с их личностями и мечтами, стало самым невыносимым, но и самым интересным, что пришлось пережить обеим.
Амина продиралась к Иранне сквозь ее болтливость и грозность, сквозь предубеждение. Они часто оставались вместе, брошенные всеми. И через отстраненность, отторжение, убежденность Иранны, что Амина претендует на ее место, прорвалась к ее незащищенности, мягкости, запрятанной под покровом отчасти напускной непоколебимости. Амина со всеми жаждала быть ближе, чем позволяло положение – с младенчества одинокая девочка, запертая в своих иллюзорных мирах. Дружелюбное безразличие Амины к Иранне уступило место бережной жалости, когда она поняла, что на самом деле означают богато расшитые наряды и предания о принцессах минувшего. И что высокое положение вовсе не сотрет ни боли от смерти отца, ни предательство матери, ни склизкое ожидание предопределенной кем-то другим участи.
Воспитываясь во дворце с обилием прихвостней всех мастей, Амина, вместо того чтобы польститься на обманчивое внимание к ее статусу, чувствовала себя покинутой и научилась мириться с этим. Тем удивительнее и слаще было откровение, что люди отвечают, если их спросить и улыбаются в ответ на проказу. Тяготея к тотальной тишине, Амина прикипела к напыщенности Лахамы и многоголосию Иранны, хоть с Иранной особенно не о чем было поговорить наедине, в отличие от безбрежности Лахамы.
Иранна состояла во внешнем, земном, держа в уме все дворцовые интриги и всех торговцев сердоликом. Принцесса будто просыпалась, чтобы послушать новости дня – кто и почему умер, кто нарушил общественную договоренность, а кто соблазнил чужую жену, из-за чего потом был изнасилован ее мужем с одобрения совета города. Женщины, окружающие Амину, зазывали ее в необходимость удобно устроить быт и быть вовлеченной в жизнь знати. Но небеса с их неизведанностью манили куда сильнее. Амина переросла полупрозрачный период наслаждения экзотическими тканями и сплетнями, потому что подспудно чувствовала польщенность от сопричастности с другими людьми. Но душа ее парила в иных измерениях. В культе общественного она осмеливалась тяготеть к индивидуальному, понимая всю важность сплоченности и восхищаясь ей. При этом Амина осознавала, что индивидуалист угрожает выживанию в период засухи или потопа, хоть и лучше всех умеет, отпустив свой разум, дойти о чего-то уникального, чем толпа, забившая его насмерть, станет затем упиваться.