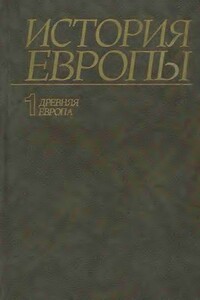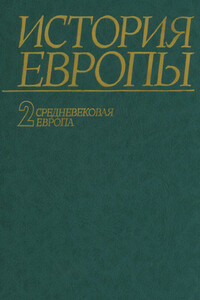Европа нового времени (XVII—ХVIII века) | страница 13
Однако наши сведения о социально-классовой структуре английского общества в канун революции были бы неполными, если бы мы не остановились, хотя бы вкратце, на количественно растущем слое пауперов. В городе это были многочисленные поденщики, грузчики, разносчики, слуги, матросы и им подобные деклассированные элементы; в деревне — батраки без надела и бесчисленное множество бродяг и нищих, т. е. людей, лишенных источников существования в ходе аграрной революции и не нашедших приложения своему труду за пределами родной деревни.
Нетрудно заметить, что именно в рамках этого общественного слоя формировался эмоционально наиболее легко воспламеняющийся при первых же раскатах грома революции социальный материал той эпохи. Доведенных до отчаяния бродяг и нищих жестоко преследовали и при Тюдорах, и при Стюартах, отправляя их в тюрьмы, исправительные дома, на виселицы по обвинению в праздности, злостном бродяжничестве. Поистине жертвы своекорыстия имущих становились вторичными жертвами так называемого кровавого законодательства, цель которого не только оградить имущих от голода и возмущения бедняков, но и приучить вчерашних крестьян к дисциплине казарм труда по найму. Этой цели служили работные дома и «исправительные» дома (принудительного, подневольного труда).
Одна из важнейших особенностей Английской буржуазной революции — своеобразие идеологической драпировки ее классовых и политических целей. Революция стала последним в европейской истории социальным движением, проходившим под знаменем борьбы приверженцев одной религиозной доктрины против приверженцев другой. Вопрос о том, почему роль «боевой теории» антифеодальной революции в Англии была призвана сыграть идеология пуританизма (т. е. кальвинизма на английской почве), неизбежно уводит к истокам английской реформации Генриха VIII. Будучи по своему характеру «королевской», английская реформация затронула канонический строй церкви в этой стране ровно настолько, насколько этого требовали интересы укрепления абсолютизма Тюдоров. Закрытие монастырей и секуляризация в пользу короны их недвижимого и движимого имущества должны были наполнить опустевшую в правление Генриха VIII казну и при помощи щедрых раздач накрепко привязать к правящей династии обширный слой владельцев бывших церковных вотчин.
Замена папского верховенства королевской супрематией расширяла базу абсолютизма, поставив под его контроль не только церковную иерархию, но также само вероучение и проповедь. Однако во всем остальном реформированная англиканская церковь на первых порах мало чем отличалась от традиционного католицизма. Хотя в правление Елизаветы I реформация была значительно углублена (появились так называемые «39 статей» англиканского вероисповедания, близкого к догматике кальвинизма, составлены новые богослужебные книги и изменены формы отправления культа), многое в церкви по-прежнему напоминало о ее католическом прошлом. Прежде всего была оставлена в неприкосновенности церковная иерархия: устройство церкви оставалось по своему принципу монархическим, с тем только отличием, что вершину этой иерархии вместо папы теперь венчал король. Не было реализовано и требование об упрощении и удешевлении церковного культа. Одним словом, строгие последователи Кальвина имели все основания считать англиканскую реформацию половинчатой и требовать ее продолжения и завершения.