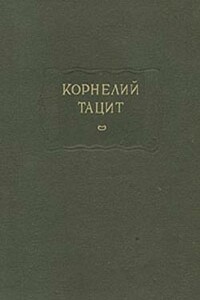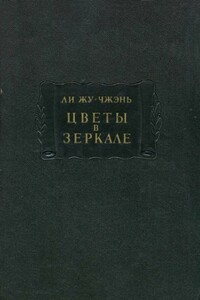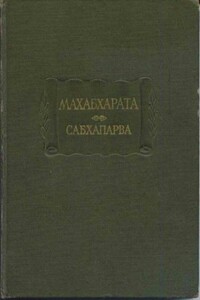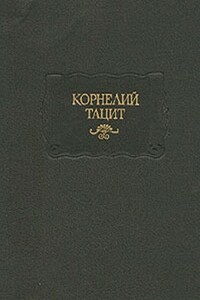Жизнь Аполлония Тианского | страница 87
31. Беседы, которые Аполлоний вел в Олимпии, были о самоважнейших предметах, как то о мудрости и о мужестве, и о воздержанности — обо всех, какие ни есть, добродетелях. Говорил он со ступеней храма, поражая слушателей не только образом мыслей, но и складом речей. Лакедемоняне донимали его, именуя его и гостем своего Зевса, и отцом спартанского юношества, и блюстителем обычаев, и старейшиной старейших. Как-то раз некий коринфянин спросил с досадой, не почтят ли они Аполлония заодно и теофанией [169], и получил ответ: «Близнецы свидетели! [170] — Все для этого готово». Аполлоний, опасаясь завистников, отклонил упомянутые почести, но когда, перевалив через Тайгет, увидел он Лакедемон возрожденным и Ликурговы заветы в действии, то не в тягость себе счел потолковать со спартанскими властями о занимающих их предметах. Итак, те спросили гостя, как почитать богов, а он отвечал: «Как владык». На следующий же вопрос — как почитать героев — отвечал: «Как отцов». В третий раз его спросили, как почитать людей. «Этот вопрос не лаконоский» [171], — возразил Аполлоний. Затем они спросили, какого он мнения об их законах, и он сказал: «Учителя превосходны, однако учителей хвалят, когда ученики не ленятся». Наконец, спартанцы спросили, что посоветует он им касательно храбрости. «Быть храбрыми — вот и все», — отвечал Аполлоний.
32. В это же время случилось так, что некий молодой спартанец был обвинен согражданами в безнравственности, ибо происходил он от Калликратида, начальствовавшего флотом при Аргинусских островах, но по приверженности своей к мореплаванию забросил государственные дела, а вместо того построил себе корабль и ходил в Карфаген и на Сицилию. Аполлоний услыхал, что отдают его под суд, решил, что было бы жестоко бросить юношу, коему грозит наказание, и завел с ним беседу: «Почему ты, голубчик, ходишь такой задумчивый и озабоченный?» — «Мне предъявлено государственное обвинение, ибо я занят мореплаванием и не исполняю общественных должностей». — «А отец твой и дед тоже были корабельщиками?» — «Ну уж нет! Они у меня все гимнасиархи, эфоры и патрономы [172], а происхожу я от флотоводца Калликратида». «Неужто от Аргинусского?» — «Именно — он и погиб в этой должности». — «Разве смерть твоего пращура не отвращает тебя от моря?» — «Зевс — свидетель, ничуть! Я хожу в море не для сражений». — «Тогда скажи, есть ли кто злополучнее купцов и судовладельцев? Сперва они мечутся, выискивая рынок подешевле, потом продают и покупают, а для того вяжутся со всякими посредниками и прочей сволочью, готовые подставить голову под самые гнусные проценты, лишь бы с лихвой воротить капитал, — и ежели им повезет, то и корабль цел, и полным-полно рассказов, как они ничуть его — хоть вольно, хоть невольно — не повредили; но ежели прибыль долгов не покрыла, то они, пересевши в шлюпки, бросают судно на скалы, а потом богохульствуют о промысле божьем, из-за коего лишились-де жизни прочие их спутники. А если и не совсем таковы моряки и корабельщики, то все же как можно родовитому спартанцу, чьи предки некогда обитали в самом сердце Лакедемона, похоронить себя в трюме, отвергнув Ликурга и Ифита, заботясь лишь о грузе да о судовых расчетах? Это ли не позор