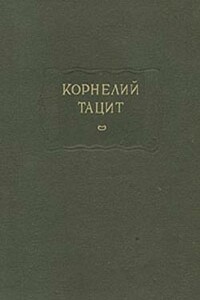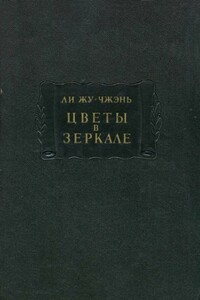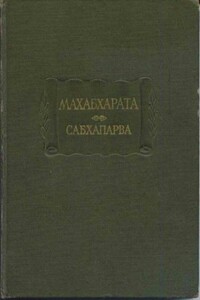Жизнь Аполлония Тианского | страница 86
и как в Олимпии о Зевсе рассуждал(28)
28. Взирая на Олимпийский кумир, Аполлоний воскликнул: «Привет тебе, Зевс всеблагой! Поистине, настолько ты благ, что и самим собою поделился с людьми». Еще он рассуждал о бронзовом Милоне, толкуя вид сего изваяния, а изваян Милон стоящим на плоском круге ступня к ступне, и в левой руке он держит гранат, а пальцы правой вытянуты и плотно прижаты друг к другу, словно он хочет просунуть их в щель. Так вот, в Олимпии и в Аркадии об этом изваянии передают нижеследующее: Милон был столь несгибаем, что его невозможно было сдвинуть с места, на коем он стоял; а сжатые пальцы объясняют через связь гранатовых зерен — их нельзя разъять, как ни борись с каждым поодиночке, и точно то же с вытянутыми пальцами, ибо спаяны они тесной близостью; а головную повязку они полагают знаком смиренномудрия. Аполлоний сказал, что все эти объяснения придуманы хорошо, но правильное объяснение еще лучше. «Для того чтобы вы вникли в духовный образ Милона, кротонцы изваяли сего ристателя жрецом Геры. Тогда о повязке и толковать не стоит, а нужно лишь помнить о жреческом сане. То же и гранат — единственный плод, произрастающий для Геры. Что же до плоского круга под ногами, то жрец для молитвы Гере восходит на щит — это подтверждает и правая рука. А то, как изваяны пальцы и ступни, следует приписать древности изваяния».
и о многих иных его мнениях, суждениях и поучениях, особливо в Спарте(29—32)
29. Присутствуя при элидских священнодействиях, Аполлоний хвалил элидян, свершавших все рачительно и в должном порядке, словно надзирали они за собой, как за состязающимися на ристаниях, чтобы вольно или невольно не допустить какого-либо промаха. А когда товарищи Аполлония спросили его, какого он мнения об устройстве Олимпийских игр, он ответил: «Не знаю, мудры ли элидяне, но разумны весьма».
30. А какое презрение питал он к самозванным сочинителям и какими глупцами почитал взявшихся за сие непосильное дело, можно узнать из нижеследующего рассказа. Юнец, возомнивший о своей мудрости, встретился с Аполлонием в храме и пригласил его: «Пожалуй ко мне завтра, ибо я намерен кой-что прочитать». На вопрос Аполлония, что же именно, он отвечал: «Сочинение о Зевсе», — и с этими словами вытащил из-за пазухи книгу, хвалясь ее толщиною. «Какою же хвалой восславишь ты Зевса? Или речь пойдет о здешнем Зевсе, коему нет равных на земле?» — «О здешнем Зевсе тоже, но и обо многом другом — как о предпосылках, так и о следствиях, ибо все от Зевса: и времена года, и земное, и надземное, и ветры, и звезды». — «Да ты, похоже, силен в славословии», — заметил Аполлоний. «Именно по этой причине, — отвечал тот, — я сочинил похвальные слова также подагре, слепоте и глухоте». — «Почему же ты обходишь своей мудростью водянку и насморк, если уж желательно тебе восхвалять подобное? А еще лучше приняться за умирающих — поподробнее расхвалить всякие смертельные болезни и тем утишить скорбь родителей, детей и домочадцев покойного». И заметив, что юнец при этих словах прикусил язык, Аполлоний спросил: «Скажи, о сочинитель, что предпочтительнее хвалить — знакомое или незнакомое?» — «Знакомое, — отвечал тот, — ибо как можно восхвалять неведомое?» — «Ты, стало быть, уже составил похвальное слово собственному отцу?» — «Я хотел, но он кажется мне таким могучим и таким благородным и красивее всех, кого я знаю, и он такой домовитый и во всем такой мудрый — вот я и бросил эту затею, дабы не обидеть батюшку неподобающей речью». Тут Аполлоний, охваченный раздражением, какое часто испытывал в обществе тупоумных невежд, воскликнул: «Ах ты мерзавец! Собственному отцу, коего знаешь, как себя самого, ты, значит, достойной речи сочинить не решился — а к Отцу людей и богов и Творцу всего сущего, всего, что вокруг нас и над нами, ты обращаешь пустопорожние славословия! Да неужто ты не трепещешь перед ним и не берешь в толк, что рассуждения о нем превыше сил человеческих?»