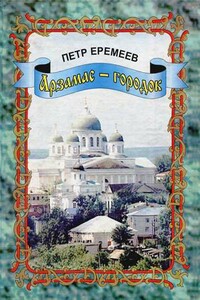Пятая мата | страница 39
Поселковый клин покосов делился каждый год, и каждый год пай доставался в разных местах. Вот здесь братан валил траву — там вместе гребли кошенину, в том озерушке и купались с Мишкой, и неводили бреднем.
А начало сенокоса всегда было праздником. Исстари велось, что в первый день косьбы надевали одежду поновей, поярче, работу бросали скоро, собирались вместе и обедали на берегу Чулыма. Понятно, не обходилось без вина, выпивали для веселья, и луговину распирало от громких песен.
Глухой тоской обернулись воспоминания.
Уже не раз ловил себя Романов на том, что жалкует о прошлом, что охотно поддается этой гнетущей, но сладкой тоске.
Кажется, и вспоминать-то нечего. Все работа да работа. С мальчишества, считай, на реке, все руки тросами изорваны и мозоли на ладонях, видно, навсегда остались. Выматывал лесок… А жилось ему до войны как-то безоглядно весело, беззаботно. Была еще мать жива, с братаном младшим всегда душа в душу, а потом вольным казаком ходил! В прошлом году схоронили родительницу, и с Мишкой они вдвоем остались. Больше недели от брательника письма нет. Жив ли? Тихон тряхнул головой, отогнал то страшное, что не раз уже являлось к нему и пугало. Как же так, если не будет Мишки?! Не придет вечером с Чулыма, не сядет за стол, не выложит усталых рабочих ладоней, не засмеется… Такие далекие — такие близкие довоенные дни… Они казались сейчас настоящим счастьем. Не было в них страха за Мишкину жизнь. Не было тревог и болей за жизнь других поселковых, и не висел на Романове тяжелый груз его теперешних забот и дел. Ну, дела своим чередом — Чулым, как и всякая большая река, извечно не дает отдышки людям, не любит, чтобы они праздно жили по его берегам. Новая забота гложет все эти дни начальника. А как и вправду заведут дело с пятой… Иванов — директор, высоко, крепко сидит… Спросят: кто лоцмана на мату послал, чей он, Бекасов. Ах, Романов послал…
Тихон не заметил, как дошел до памятной суховерхой березы. Пласт сена, что упал с вершины стога, бурым пятном лежал на светлой зелени отавы. Романов сходил в тальники, вырубил четыре вершинки, забросил наверх волглую уже кошенину, изловчился и взобрался на стог. Там он связал гибкие талины, съехал вниз и с четырех сторон завертел концы деревин свитыми жгутами сена. Потом старательно подбил осевший стог.
Можно было идти домой.
Она давно увидела Романова и теперь поджидала его.
И он ее заметил, однако не прибавил шагу, припоминал, что некогда связывало их.