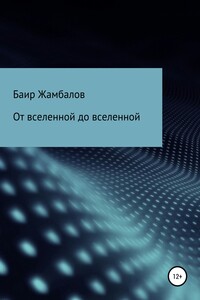Не ходи в страну воспоминаний | страница 77
— Знаю, и?
— Да хворый весь, видно. На кой таких рожают? Вон, у бабки моей, за жизнь-то двенадцать младенчиков было, а в живых пять. Ни те больниц, ни те лекарств, кому бог дал жить - жил, кому нет - к рукам прибрал. Таков и закон…
— Да ты где стрижешь, слепая что ли?
— Не лезь.
Георг прижался спиной к стенке, и даже не видел, как падают подрезанные стебли, заросли были, как плотный ковер.
— Щас инкубаторы всякие, всяк без разбора за уши тянут… а после что? Как будто они только на шее родителей виснут. Наплодят инвалидов, а мы налоги на их пенсии плати, — женщина заворчала, — есть закон природы, здоровым жить, больным умереть. И общество здоровее, и внуки крепче.
— Да, коль на судьбе написано, — сестра ее поддержала.
— Сорняк выпалывают, правильно делают, а о людях не думают! Раньше это хорошо понимали. Жить нормальным людям не дают, - и привилегии им, и льготы, и вне очереди, паразиты, и это под них переделывают, и то, а пользы, как от этого плюща. Растут, да, не приведи господь, множатся, а и совсем уроды… видала карлика на рынке? Ботинки он чинит… смотреть гадко.
— Дак, пацан-то с восьмого, он вначале нормальный был.
— Был, — неохотно согласилась та, — да с брачком, раз порвался. Дали бы ему помереть, так из больницы в больницу таскают… а на кого я, выходит, всю жизнь работала?
Георг не выдержал. Он оттолкнулся от стенки, продрался на свет и заорал:
— Гадина! Мерзкая гадина! — и бросился бежать.
Пробежал немного, резко потемнело в глазах, и он повис на железных трубках конусообразной карусели. От слабости затряслись руки и ноги.
Отчего так, как только он становится ненадолго счастлив, на него опять сваливается что-то ужасное. Только все хорошо, как тут же все плохо. Только поверил, только понадеялся, только понял и уверовал, как подобная скотина растаптывает все своими копытищами. Я хочу жить, хочу жить, — возмущался он, — я имею на это право! Ведь имею! Или нет… что за закон такой? Почему нельзя? Почему нехорошо, если я есть на свете?
Проходящие мимо детской площадки взрослые не обращали на него внимания. Катался мальчик, а теперь устал, отдыхает. А он смотрел каждому в лицо и каждый раз мысленно спрашивал: а ты не против, что я есть? А тебе не мешает, что я живу? А ты разрешаешь мне? А ты?
Еще вчера он думал, что настолько повзрослел, что разучился плакать, а теперь заревел взахлеб, и в голос:
— А я все равно хочу!
И сквозь пелену увидел, как к нему несется отец.
Дома запахло сердечными лекарствами. Час оба сидели у кровати, а мамина ладонь загладила макушку Георга до неестественной прилизанности. Он делал вид, что уснул, но икота и нервное вздрагивание его выдавало. Наконец, пришел вечер. Мальчишка уснул по-настоящему, и как только в комнате он остался один, на вахту заступила Оливия. Она тоже ненадолго присела на краешек кровати своего воина, и тоже провела рукой по макушке. Если мать и отец страдали от неизвестности, то оруженосец от знания будущего.