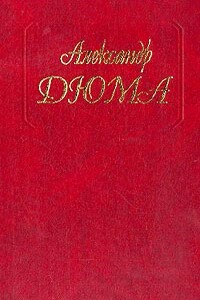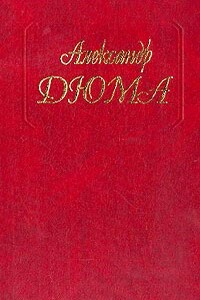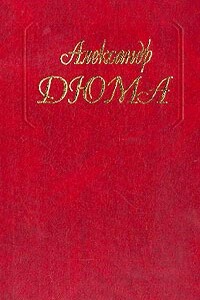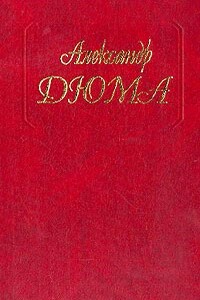Защитники прошлого | страница 63
Я молча принял листки, стараясь, чтобы рука не дрожала и засунул в нагрудный накладной карман своего эсэсовского френча. Прощаться было невыносимо… Я оставлял их умирать, их всех… И я точно знал, что их ждет. Мира погибнет в бункере Анелевича, когда оставшиеся в живых покончат с собой. Вместе с ней примет смерть Вильнер. Как именно? Этот уже никто не узнает. Также как никто не узнает как и где погибнет Давид Апфельбаум. Поэтому дотошные историки станут авторитетно сомневаться в его существовании. А сейчас он стоял перед до мной с отобранной у эсэсовца винтовкой в руках, стоял и грустно смотрел на меня, все на свете понимая и у меня не было ни малейшего сомнения в его недолгом существовании. Я заметил, что в тот момент, когда я взял два листка, из его взгляда исчезла подозрительность и настороженность. Теперь он скупо улыбался мне. Поважный уже вышел на улицу и Карстен осторожно вывел из подвала упирающуюся Двору, а я все стоял и смотрел на этих людей: на Давида, на Миру, на Вильнера. Я смотрел на них и чувствовал, что нечто очень важное так и не не было сказано. Я вспоминал "киевское письмо", "Свиток Эстер", строгие предупреждения Эйтана и все не мог решиться.
– И вот еще что… – начал я, еще не зная как продолжу.
Они смотрели на меня так, как, наверное, католики смотрят на икону. Кто-нибудь задумывался о том, что при этом ощущает икона? Не самое приятное, надо вам сказать ощущение. И я так и не мог придумать, как закончить фразу и что сказать. А они все продолжали молча смотреть на меня и молчание становилось гнетущим. Мне помог Вильнер.
– Скажи мне, тезка, нас будут помнить? – спросил он.
В трёх парах глаз я видел один и тот же вопрос и этот вопрос не мог остаться без ответа. Мне вспомнились слова Френкеля39 и тогда, наплевав на все формулы толстяка Рои и на строгие инструкции Эйтана, я "раздавил бабочку", сказав:
– Про вас будут учить в школе!
Выпалив эти слова, я сразу же повернулся и побежал догонять своих, но выражение этих трех лиц навсегда запечатлелось в моей памяти каждым из своих пикселов нематериальной фотографии. Это невозможно описать, но если есть на свете Божий Суд, то пусть, когда придет мой час, мне зачтется то, что я увидел в их глазах, убегая…
Мы снова шли через Гетто по бесконечной улице Гезия. Карстен теперь был одет в шинель, снятую с украинского эсэсовца и, похоже, его повысили в звании. Я заметил, что он старался не стонать, когда стягивающая его грудь тугая повязка впивалась в тело. Поважный вел Двору под локоть, а мы с Карстеном шли за ними и казалось, что двое эсэсовцев конвоируют евреев. Куда? В пересылочный пункт, в Треблинку, до ближайшей стенки? Но люди на брусчатке смотрели на нас совсем не так, как в первый раз. Что они почувствовали, что увидели на угрюмом лице поляка, в глазах Дворы, которые она прятала в свой платок? Может они увидели там надежду? И пока мы снова шли сквозь этот строй, люди поднимали на нас глаза и я тоже видел в них робкую надежду. Странное это было зрелище, нереальное как горячечный бред, сплошная мистика. "Бегите!" молча кричал я им и они, казалось, меня слышали, хотя на улице царила почти мертвая тишина. Но они не двигались с места и лишь смотрели, смотрели. Я понял, что навсегда запомню эти лица, лица людей, которых ждала смерть. Всех? Тогда я вспомнил, что некоторым, немногим, все же удастся вырваться, подняться к свету из кругов ада. Потом они будут свидетельствовать на многочисленных процессах, в мудрых комиссиях и воспитанные европейцы будут их вежливо слушать, а потом тщательно постараются забыть то, во что так больно поверить. И никто из беспристрастных судей, никто из мягкосердечных, отвратительно вежливых слушателей не будет знать как пахло смертью на улице Гезия в феврале 1943-го.