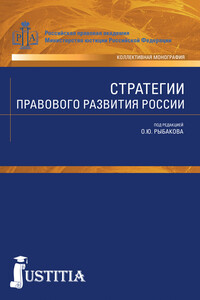Этюды о гуманитаризации образования | страница 24
У Фрейда есть такая ситуация: «человек, который вырос в несчастных условиях, всю оставшуюся жизнь психологически считает весь мир ответственным за свои несчастья».
Относительно требований, предъявляемых к тем или другим специалистам, существуют разные точки зрения.
Нельзя согласиться с сопоставлением техники и медицины, сделанным акад. Е. И. Чазовым: «Медицина — это такая наука и такая профессия, в которой в отличие от других нельзя слепо работать по инструкции.
В технике проще — там разрабатываются технологические схемы, регламенты, и инженер, точно используя научные разработки, следуя строгой схеме, получает отличные результаты. В медицине это невозможно». (Мед. газ. 1984. 16 марта).
«Нельзя слепо работать по инструкции» не только в медицине.
К месту приведем слова Ч- Бэббэджа: «Заставить человека думать — это значит сделать для него значительно больше, чем снабдить его определенным количеством инструкций».
«Умствуй — и придет!» — повторял Л. Ф. Магницкий. Вспомнив определение В. Даля: «Интеллигенция — часть народа, которая мыслит самостоятельно» (ср. с. 89—90), как можно отнестись к специалистам, работающим только по инструкции? Наверное, не требуется обсуждения.
Закон запрещает, а не предписывает, он ставит границы человеческим действиям, а не задает им цель и направленность. Поэтому известный афоризм — «что не запрещено, то разрешено» — выражает дух правового государства, подразумевается, что человек сам выбирает цели и способы деятельности, отказываясь лишь от тех из них, что запрещены законом. В то же время афоризм, противоположный ему по смыслу, — что не разрешено, то запрещено — ограничивает простор человеческого выбора и сводит закон на роль инструкции: действовать нужно так, и только так. Это различие — закона и инструкции имеет основополагающий характер. Здесь проходит грань между правовым государством и авторитарным и тоталитарным режимами.
Приведем и такое сравнение: небоскребы, башни и др. чуть покачиваются — так их сделали. Стоит закрепить намертво — башня рухнет. Закон без известных допусков, «пробелов» не рухнет, конечно, но не будет исполняться в каких-то частях. Даже при идеальной системе законов нельзя обойтись без их толкования. «Пропал мой Кодекс!» — воскликнул Наполеон, узнав о появлении на него первого комментария. А он-то полагал, что «расписал все» на века... Восклицание Наполеона можно понимать и по-другому: его кодекс как раз и пропал потому, что его стали не исполнять, а направлять, искажать свободным толкованием.