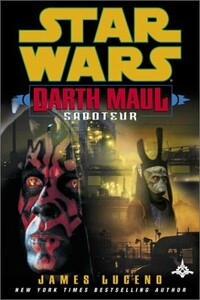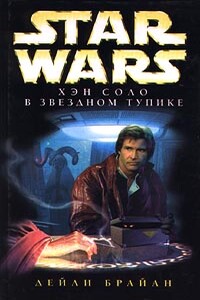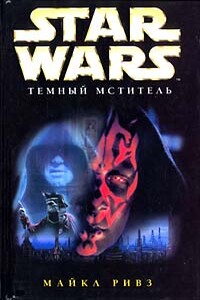Иерихон | страница 166
Когда я отстраняюсь, пытаясь понять, что всё-таки происходит, рот и подбородок Кампари залиты кровью. Неосознанно стираю её пальцами, а он изрекает:
— К сожалению, это не моя.
Но он ошибается: кровь идёт у него носом, а я заново присматриваюсь к его рукам и одежде неизвестного мне происхождения — чёрной, поэтому хрен разберёт, что там налипло кроме грязи. То же можно сказать о ногтях.
Пытаюсь оттащить его к забору, вспомнив, что мы стоим на проезжей части, но Кампари заявляет, что не сойдёт с рельсов, пока не расскажет то, что я должен знать. Утверждает, что уже терял пятнадцать лет, и не уверен, что не потеряет ещё десять, сделав всего один шаг.
Покоряюсь. Слушаю сбивчивую исповедь, сначала решив, что мой друг-торчок пережил весьма неприятный трип, и легче дать ему высказаться, чем спорить. Внимаю с нарастающим любопытством: трип оказался в жанре, который я обожаю, а Кампари недолюбливает. Сколько себя помню, тащился с утопий и антиутопий, развлекался устройством идеального мира, продумывая законы, которым в жизни не стал бы следовать. Потом мне становится до лампочки, случились ли события, что он описывает, в каком-то параллельном мире или исключительно в голове Кампари: для него они — непреложная реальность, значит, станут таковой и для меня. Слушаю с благодарностью, потому что способность его мозга быстро отгораживаться от фактов, несовместимых с жизнью — не главная причина происходящего. Кампари ещё там, внутри барьера, но этим рассказом посреди ночной улицы он возвращается, сокращает возникшую между нами дистанцию в десять лет.
Редкие машины сигналят и объезжают нас. Мысленно я нахожусь у песчаного карьера и сам толкаю Кампари под руку — «Не тяни, читай!» — когда он прерывает нарратив:
— Кстати, дай закурить.
За этот повелительный жест я буду подначивать его до конца жизни, но позже, когда оклемается. Про себя отмечаю, как здорово, что контрольные работы уже написаны: тащить Кампари в школу в ближайшие дни — перспектива забавная, но бесчеловечная по отношению к нему и тем более к окружающим.
Трудно сомневаться в том, что мой лучший друг — осунувшийся, но не повзрослевший, несмотря на лёгкие перемены в интонациях и пластике — торчал в Агломерации десять лет, когда, закурив, он закашливается как новичок, восклицает: «Ну надо же, правда — отрава!», ещё раз жадно затягивается и зеленеет.
О чём-то он говорит бегло, другие сцены передаёт в лицах, и я вижу архитектора Пау с короной гениальности на голове, хвостатую Дик, которой априори симпатизирую — кто-то ведь должен был хватать Кампари выше локтя и советовать не загоняться на мелочах, белокурого Фестуса, скрывающего под внешностью херувима мощный, пытливый разум, и даже валькирию в контролёрском комбинезоне, которую пока совсем не могу понять.