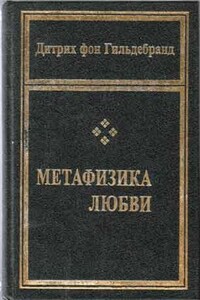Речи к немецкой нации | страница 62
Во-первых, и прежде всего: человек образует себе то или иное научное воззрение не свободно и не по произволу, – его жизнь образует в нем это воззрение, и оно есть, собственно говоря, сам превратившийся в созерцание внутренний и ему впрочем неизвестный корень его жизни. То, что ты есть поистине в твоем внутреннем существе, всегда явно предстанет твоему внешнему глазу, и ты никогда не сможешь видеть что-либо иное. Если бы ты видел иначе, тебе пришлось бы сначала стать иным. Внутреннее же существо заграницы или неизначальности составляет вера в нечто последнее, прочное, неизменно наличное, в границу, по эту сторону которой хотя и играет свободная жизнь, но которую саму перейти, растворить ее собою и слиться с нею эта жизнь никогда не сможет. А потому эта непроницаемая граница когда-нибудь непременно предстает ее глазам, и она может мыслить или верить не иначе, как предполагая подобную границу. Допустить иное значило бы совершенно преобразить все внутреннее ее существо и вырвать сердце из груди ее. Она необходимо верит в смерть, как первоначальное и последнее, как основной исток всех вещей, а с ними – и жизни.
Здесь нам следует прежде всего указать, как выражается в наше время среди немцев эта заграничная вера.
Она выражается, во-первых, в собственно так называемой философии. Нынешняя немецкая философия, насколько таковая заслуживает здесь упоминания, желает основательности и научной формы, несмотря на то что не способна достичь ни того, ни другого, она желает единства, – и в этом ей тоже послужила предшественницей заграница, – она желает познания реальности и сущности – не простого явления, но являющейся в явлении основы этого явления, и во всех этих желаниях она права и далеко превосходит господствующие философские системы нынешней внешней заграницы, будучи в подражании заграничному намного основательнее и последовательнее этой заграницы. Эта основа, которую нужно усматривать за всеми явлениями, есть для этих философов (даже если они дают ей еще менее удачные дальнейшие определения) всегда некое прочное бытие, которое есть то, что оно именно есть, и ничто более, сковано в себе самом и привязано к своей собственной сущности; и так смерть и удаление от изначальности, которые в них самих, явно предстают их глазам. Поскольку сами они неспособны возвыситься до жизни вообще, жизни из себя самой, но всегда нуждаются для свободного полета в некотором носителе и опоре, поэтому и в своем мышлении, как отображении их жизни, они не могут выйти за предел этого носителя: что не есть нечто, то для них есть с необходимостью ничто, потому что между этим вросшим в себя бытием и ничто их глаз ничего более не видит, потому что в их жизни там ничего более не имеется. Их чувство, на которое только они и могут ссылаться, кажется им безошибочным: и если кто-нибудь не признает такого носителя, то они не только не умеют допустить, что он довольствуется одной только жизнью, но полагают, что он просто недостаточно остроумен, чтобы заметить носителя, который, без сомнения, носит и его самого, и что он лишен способности воспарить до их собственных высоких воззрений. Поучать их поэтому напрасно и невозможно; их нужно бы было сделать, и сделать иными, если бы мы только могли. В этой своей части нынешняя немецкая философия – не немецкая, но подражание загранице.