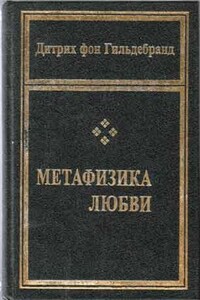Речи к немецкой нации | страница 63
Истинная же философия, дошедшая в самой себе до конца и поистине проникшая за грань явления к его внутреннему ядру, исходит из единой, чистой, божественной жизни, – как жизни вообще, которой она и остается вовеки, и в том всегда остается единой, – а вовсе не из той или иной жизни. Она видит, что эта жизнь только в явлении снова и снова бесконечно замыкается в себе и опять открывается, и только вследствие этого закона возникает вообще некоторое бытие и некоторое нечто. Для нее возникает то бытие, которое философия первого рода принимает как заранее данное. А потому только эта философия есть в подлинном смысле немецкая, т. е. изначальная философия; и напротив: если бы кто-нибудь стал настоящим немцем, он не мог бы философствовать иначе как именно таким образом.
Эта система мысли, хотя и господствующая у большинства философствующих по-немецки, однако не являющаяся собственно немецкой, вторгается, – все равно, утверждают ли ее сознательно как собственно философскую систему, или она только неосознанно лежит в основании всего прочего нашего мышления, – она вторгается, говорю я, во все прочие научные воззрения нашего времени; и в самом деле, основное стремление нашего, вдохновляемого заграницей, времени в том именно и состоит, чтобы уже не просто охватывать научный материал в памяти, как делали наши предки, но обрабатывать его самостоятельной и философствующей мыслью. Что касается самого этого стремления, в нем наше время право; но если, как и следует ожидать, приступая к этому философствованию, оно станет исходить из мертвоверной заграничной философии, оно будет неправо. Мы здесь бросим взгляд только на те науки, которые ближе всего находятся к совокупному нашему замыслу, чтобы отыскать распространенные в них иностранные понятия и воззрения.
В убеждении, которое рассматривает учреждение государств и правление государствами как свободное искусство, имеющее твердые правила, – в этом убеждении, без сомнения, заграница – сама последовавшая образцам древности, – послужила нам предшественницей. В чем же подобная заграница, которой уже в самой стихии ее мысли и воли – в ее языке – дан прочный, законченный и мертвый носитель, и в чем все, кто ей в этом последует, будут усматривать это государственное искусство? Несомненно, в искусстве находить столь же прочный и мертвый порядок вещей, из которой смерти долженствует теперь возникнуть живое движение общества, и возникнуть таким, каким его задумало это искусство; в искусстве сопрягать все живое в обществе в большой и искусственный механизм как бы печатного станка, в котором каждый индивид постоянно воздействием целого понуждается служить этому целому; в искусстве решать арифметическую задачу сложения конечных и определенных величин в реальную сумму, предполагая, что каждый желает своего блага, и с целью, именно благодаря этому, заставить каждого против его воли и стремления содействовать общему благу. Заграница во множестве форм выражала это воззрение, и представила нам шедевры этой общественной механики; наша родина восприняла это учение и подвергла дальнейшей обработке применение этого учения к созданию общественных машин, будучи и в этом, как всегда, обстоятельнее, глубже, истиннее, и далеко превосходя свои образцы. Если прежний ход общественных дел застопорится, то эти знатоки государственного искусства не умеют объяснить себе этого иначе как тем, что, вероятно, в механизме износилось одно из колес, и для спасения дела не знают иного средства, кроме того, чтобы вынуть из машины поврежденные колеса и заменить их новыми. Чем более закоренеет человек в этом механическом воззрении на общество, тем большую он обнаруживает сноровку в упрощении этого механизма, стараясь сделать все части машины возможно более равными друг другу, и трактуя все части как однородный материал, – тем большим знатоком государственного искусства он слывет, и слывет, в наше время, по праву; ибо от колеблющихся в нерешительности, и неспособных усвоить себе никакое твердое воззрение, вреда бывает еще того более.