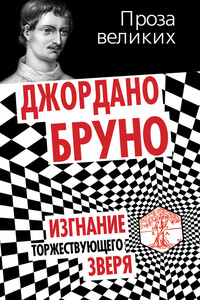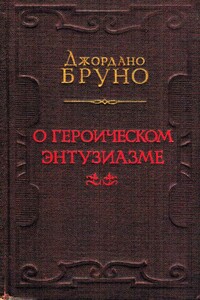О связях как таковых | страница 53
Давно стала лингвистическим трюизмом глубокая мысль Гумбольдта, замечавшего, что «язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее», представляя собой «не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia)», и рассматривать его нужно «не как мёртвый продукт (Erzeugtes), а как созидающий процесс (Erzeugung)» [Гумбольдт 2000: 69–70]. И если латинский язык при большом желании и можно назвать языком мёртвым, то едва ли таковым является русский. То, что оборот «как таковой» имеет «ограничительное», а не «расширительное» (in genere) значение, не мешает ему употребляться в последнем смысле, множество примеров чему мы найдём в художественной и академической литературе. Ограничимся одним, позаимствованным из мемуаров известного историка искусства Виля Борисовича Мириманова (1929–2004), в которых он вспоминает о своём общении с двоюродным братом матери, искусствоведом-иранистом Левоном Тиграновичем Гюзаляном (1900–1994):
Он нередко говорил о работе. Я помню его высказывание о том, что работа тем значительнее, чем уже избранная тема. В качестве примера он указал на серебряный персидский сосуд, сказав, что даже не сам этот предмет, но его крышка могла бы стать темой диссертации. Этого урока я не усвоил. Я не пренебрегал деталями, но настоящим моим объектом всегда была архитектоника явления как такового [Мириманов 2012:170].
То, что in genere всегда точно переводилось на русский язык: «в общем, вообще, по своему роду» [Боровский 1988: 356], не отменяет возможности передачи иным путём «расширительного» значения, права «перевыразить» его «средствами и по законам языка», «пытаясь при этом точно передать все оттенки мысли» [Галь 2015: 220–221]. Конечно, при этом нельзя забывать о другой крайности, то есть «развязности» как оборотной стороне канцелярита [Галь 2015: 180]. Недопустимым казалось и Н.А. Галь и К.И. Чуковскому интранзитивное употребление глагола «переживать» (наряду с принятым и транзитивным: «переживать горе, радость, etc.»), «одна из примет пошлой, мещанской речи» [Галь 2015: 89]. Приняв эту форму [Чуковский 2012: 22], всё же классик признавался, что ему «противоестественно» было бы сказать: «я переживаю» [Чуковский 2012: 19]. Как бы то ни было, употребление «переживать» без дополнения давно стало частью не только живого языка, но и литературы. Мы встретим его уже у писателей середины-второй половины XX в. (К.М. Симонов, Д.А. Гранин, В. В. Быков, etc.). Причины, по которым недопустимо использовать уже устоявшийся «расширительный»