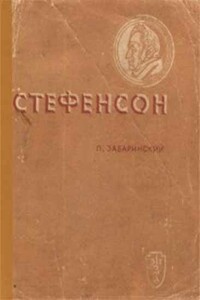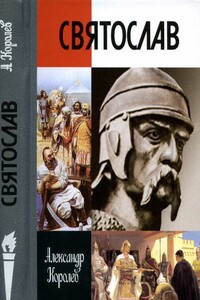О Господи, о Боже мой! | страница 74
Так мне скверно! Но я уже в пути, от скверного дельца некуда деваться и говорить нельзя. Пойду. Позову мужиков опойков (пьяниц) с их вонючими визгливыми бензопилами, они будут топтать нетронутый снег…
Пришли, кричат, подлым железом грызут еловые ноги, трясут пересыпанные инеем ветви. Сейчас пила выйдет с другой стороны ствола. Двое мужиков рогатинами толкают, наваливаются. Разойдись!!! Стоит. Дрогнула вершина… Только небо держит. И — ах!.. В облаке скрываясь, всем величием — оземь! Страшно… Только так хочу умереть! Надо быть такой высоты.
Ребята бегут, лезут на поверженного — рубят сучья, стаскивают в кучи, жгут костры. Весело им, а лес им не победить, дело не детское. Мы упорствовали, но стало понятно, что не справимся. А колхоз не вывозит, не дает трактор. С ними договор, они получили свои деньги. Председатель — Рыбий глаз — свое дело знает, договор не выполняет. А Андреапольский межхозяйственный лесхоз (между каким это хозяйством?) шлет «Предупреждение», что на заготовленную древесину после указанного срока будет составлен акт и древесина будет реализована на общих основаниях!..
Прошел Новый год. Пронесся как паровоз. А мы между рельсами остались живые. Мы остались потрясенные, что год со скрежетом и грохотом ушел. И тихо… А там, в снегу, наш лес. Сраженные лежат… Вина, печаль, досада и нужда. Решилась я: валить и таскать ночью, когда спит Рыбий глаз и доносчики. Наняла мужиков, вышли с ребятами в ночь.
Вот он, лес наш. Да наш ли? Он — выше. Он — страшно смотреть — со звездами вровень.
И началось: слепят фары, снежное облако пылит в глаза, шарахаются тени. Что, что, что это, что наделала я?! Безумие, где верх-низ, где кто? Ради бога, пусть кончится эта ночь!
Вот стихло. Все целы? Все целы. Провидение сжалилось над неразумными! Нет, хватит.
Замело, запорошило нашу лесосеку — «завьяло».
К весне Рыбьего глаза не стало на посту председательском. И хоть он был на первом месте по молоку в районе и «зотехник», и сам доил, когда доярки пили, но колхозники его не полюбили (а кого вообще-то полюбили они?) и звали его Ольгой Петровной, хоть и был он Олегом Петровичем. Звали так не за то, что доил вместо доярок, а за то, что был нетрадиционной сексуальной ориентации. В то время не было таких слов, это позднее подобрали для неприличных дел. Как и другие слова свободно зазвучали во времена перестройки, а раньше было безвыходно — хоть тресни: дело есть, а слова — нет. На все ориентации мне было бы наплевать, если бы не пасся он в хотилицком интернате во все времена, еще до Аллигатора. Еще при директорстве Налима свободно получал он ребячьи бригады — камни с полей таскать или картошку из мерзлой земли выбирать, а кого-то залучать к себе на часок. Но теперь время перестраиваться, налим почуял, что ему пора. От отдал под суд Ольгу Петровну и выжил его с председательского кресла, сел сам. Рыжую бороденку, которая обнаружилась у него в период короткого межвластия, сбрил и, как птица Феникс («птица Феник» — говорила одна учительница), возродился в колхозе Кирова.