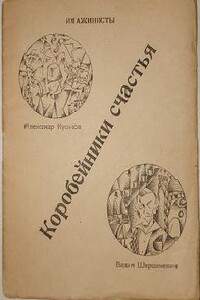Листы имажиниста (сборник) | страница 16
«Писатель образованный, начитанный и безусловно талантливый, он больше всего озабочен вопросами „школы“. <…>
В книге больше мыслей, чем эмоций, больше остроумия, чем поэзии…»[59].
Очевидно, одним из импульсов для создания урбанистической «Песни песней» было переложение библейского оригинала, сделанное Абрамом Эфросом[60] и увидевшее свет в 1909 году с предисловием В. Розанова. Кстати, Розанов был одним из самых почитаемых авторов в имажинистской среде. Так, А. Мариенгоф писал: «Не чуждо нам (Есенину и Мариенгофу. – В. Б.) было и гениальное мракобесие Василия Васильевича Розанова»[61]. Что же касается самого Шершеневича, то имя «гениального мракобеса» впервые звучит уже на страницах альманахов «Мезонина поэзии» (1913). Правда, из воистину безграничного Розанова всякий выбирал лишь близкое себе. У Шершеневича это, главным образом, розановская тема «семени человеческого». К вопросам же онтологического характера Шершеневич оставался довольно холоден, ограничиваясь иронически-панибратским (в ренано-франсовской манере) похлопыванием «Бога» по плечу («Вечный жид»)…
Особо следует отметить вклад Вадима Шершеневича в «реформу» русской рифмы. Здесь, после Хлебникова, Маяковского и Пастернака, непременно должен быть помянут и он. Хотя и тут Шершеневич, как это нередко с ним случалось, терял чувство меры – и, например, безудержное нагнетание диссонансов (в сборнике «Итак итог») в какой-то момент начинает раздражать.
Имажинизм Шершеневича заявил о себе как об искусстве оптимистичном: «Для имажинизма скорбь – опечатка в книге бытия, не искажающая факта. Искусство должно быть радостным, довольно идти впереди кортежа самоубийц»[62]. Однако может показаться, что это «довольно» Шершеневича-теоретика в первую очередь обращено к Шершеневичу-поэту, ибо многие стихи его не без основания можно отнести к разряду «суицидальной лирики». Мотив самоубийства – центральный в его поэзии имажинистского периода. Так, финальная часть стихотворения «Выразительная, как обезьяний зад» (1923) представляет собой не только своеобразный «сценарий» последнего есенинского часа, но заключает в себе и как бы черновик предсмертного стихотворения Есенина, – разумеется, если придерживаться традиционной версии самоубийства поэта. При этом невольно вспоминается пословица «Ради красного словца не пожалеет мать-отца», – ведь это стихотворение с нарочито эпатажным названием посвящено… смерти матери Вадима Шершеневича, горячо им любимой!.. И едва ли совсем не прав был В. Львов-Рогачевский, когда говорил о сборнике «Лошадь как лошадь»: «за каталогом образов, за перепевами, раскрывается страшное лицо человека, потерявшего душу в современном городе. Здесь есть свое, и это войдет в литературу»