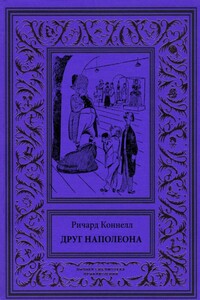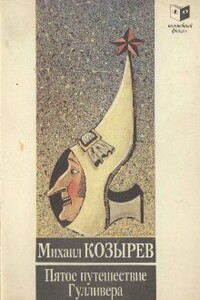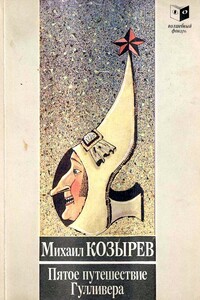Город энтузиастов (сборник) | страница 88
Но на этот раз допрос продолжался два часа.
Следователь, подробно ознакомившись с делом, задавал Локшину десятки вопросов, настойчиво расспрашивал о множестве не относящихся к делу мелочей, копался в подробностях.
– Какое отношение имеете вы к гражданке Редлих? – спросил он.
– Я думаю, – покраснев, ответил Локшин, – что к делу это никакого отношения не имеет.
– Вы уверены? – переспросил его следователь, но больше уже к этому вопросу не возвращался.
По мере того, как шел допрос, Локшин все больше и больше убеждался, что против него никаких материалов не имеется, самый арест – результат недоразумения.
– Во время отпуска вы подписывали какие-либо бумаги, исходящие из комитета?
– Иногда присылали бумаги на дачу.
– Вы помните содержание этих бумаг?
– Конечно. Я не подписывал ни одной бумаги не читая.
– Значит, вы признаете, что не приняли мер к предотвращению взрыва на заводе «Вите-гляс» и накануне самого взрыва подтвердили что ремонт не нужен…
– Я подтвердил, что ремонт не нужен? Наоборот…
– Вы говорите… – ехидно сказал следователь и извлек из папки бумажку с бланком общества, на которой черным по белому стояло:
«Комитет по диефикации считает ремонт осветительной сети на заводе преждевременным…»
А под этим уничтожающим Локшина текстом стояла его собственноручная подпись.
Следователь продолжал:
– А вы знали о существовании вредительской организации?
Тогда Локшин, действительно, ничего не знал. Он не знал о том, что Лопухин был руководителем вредительской организации, которая путем неправильного планирования, консервации наилучше оборудованных заводов, переассигнования средств и неправильного их направления пыталась сорвать работу комитета, сорвать дело диефикации страны. Он не знал, что в эту организацию входили виднейшие работники плановой комиссии, работники технической комиссии, управляющий делами комитета Андрей Михайлович, даже малозаметный Петухов.
И ему, Локшину, поверили. Он был освобожден. Он получил спокойную работу в Госплане. Он мог уже в течение двух лет не думать о делах, связанных с его пребыванием в комитете.
Но зато теперь, сидя в своей комнате в Центральной гостинице за письменным столом, заваленным грудой бумаг бумажек, сохранивших от забвения самые мелкие из мельчайших эпизоды, – теперь он знал больше всех, даже больше чем мог узнать в то время сам следователь до особо важным делам товарищ Клаас.
Несколько строк на зеленоватой бумаге, несколько строк, до сих пор не замеченных им, открыли ему все.