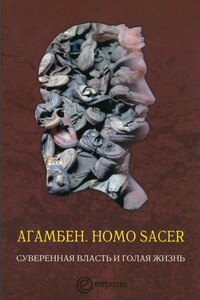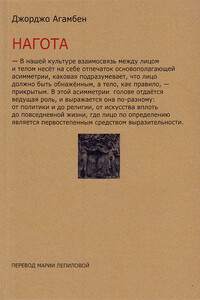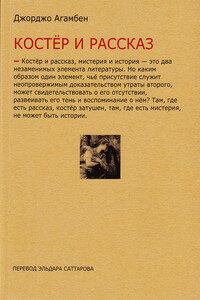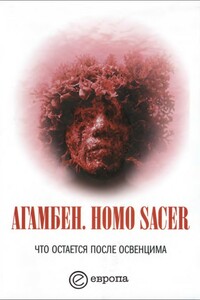Автопортрет в кабинете | страница 27
Справа на столе кабинета в переулке дель Джильо видны восемь одинаковых тетрадей в разноцветных обложках. В эти тетради я записываю мысли, наблюдения, заметки о книгах, цитаты – изредка еще и сны, встречи или особые события. Это ключевая часть моей исследовательской лаборатории, зачастую они содержат первый зародыш будущей книги или материалы книги, которую я в данный момент пишу. Я начал их вести в декабре 1979 года, теперь их уже тридцать и в венецианском кабинете они занимают целую полку в библиотеке. Я понимаю, что дал их внешнее описание, но не смог бы определить, чем на самом деле являются эти тетради: иногда они кажутся мне самой живой и ценной частью моей жизни, а иногда – ее безжизненными отходами. Разумеется, по сравнению с завершенными книгами, эти тетради, исписанные торопливым, неровным почерком, представляют собой самый точный образ возможности, которая сохраняет в неприкосновенности вероятность того, что может быть, или не быть, или быть иначе. В этом смысле они – это мой кабинет. Поэтому я предпочитаю их опубликованным книгам; порой мне хочется никогда не переступать этот порог и не переходить к окончательной редакции. Я много раз представлял себе, как пишу книгу, которая будет лишь вступлением или послесловием к отсутствующей книге. Возможно, изданные мною книги являются чем-то в этом роде – не книгами, а предисловиями или эпилогами. Тайна писателя целиком заключена в пробеле, который отделяет тетради от книги.
Тетради как форма кабинета, и кабинет как нечто незавершенное по своей сути. «Форма поиска» и «форма изложения», заметки и редактура не противостоят друг другу: в определенном смысле законченный труд тоже является фрагментом и поиском. Как и в музыке, всякий ричеркар[81], поиск, завершается фугой, но фуга в буквальном смысле не имеет конца.
На фотографии, снятой Салгадо[82] и стоящей на правом краю стола в Венеции, изображено детское лицо. Я не знаю, как звали эту девочку, но по страдающему и суровому выражению ее лица я точно знаю, что в последний день она будет меня судить и вынесет приговор или оправдает. Она – образ даэны из иранской сотериологии, которая выйдет нам навстречу в novissima dies[83] и облик которой мы изваяли своими действиями и мыслями.
Рядом видно стихотворение Джорджо Капрони, то, что начинается со слов «Я вернулся туда / Где никогда не бывал»; он переписал его для меня в 1982 году и подарил вместе с видавшей виды изначальной рукописью, датированной 31/1/1971, «одной из немногих», как он писал в сопровождающем письме, «что случайно спаслись от обычного для меня (гигиенического) уничтожения». Стихотворение это стояло и на комоде в кабинете в переулке дель Джильо, ровно под двумя гравюрами Редона. из поэтов, с которыми я был знаком, Капрони я восхищался больше всего – то есть в каждое мгновение воспринимал его с изумлением. Изумлением перед человеком, который, выглядя просто и неряшливо, облек в стихи – а значит, и пережил, если жизнь есть то, что порождается в слове и становится от него неотделимым, – неслыханный опыт, как животное, которого мутация вывела за пределы своего вида, но которое невозможно вписать в какую-либо другую