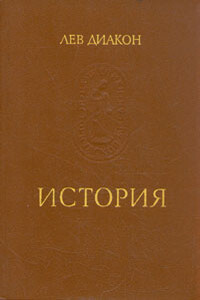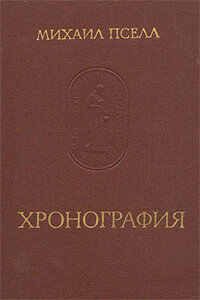Новая Хроника | страница 9
К разрешению одного из основных вопросов, встающих перед читателем "Хроники", — о ее месте в духовном движении от средневековья к Возрождению, историки шли разными путями. Э. Мель в своей фундаментальной монографии дает подробный разбор старых и новых элементов в мировоззрении Джованни Виллани; Л. Грин изучает противоречивость исторического мышления хрониста[39]. Но в каждом случае, отмечая практицизм, элементы критики и реалистического подхода к сообщаемым фактам, интерес к стилистике и античной литературе, наличие развитого личностного начала в "Хронике", исследователи все-таки единодушно относят ее создателя к средневековым писателям. Хотя, возможно, сам факт появления подобного монументального труда — как и творения Данте — предвещает приход Ренессанса. Но если даже признать исчерпывающей характеристику автора "Новой хроники" как "типично средневекового человека" и "типично средневекового" историка[40], уменьшает ли это интерес к произведению Джованни Виллани?
Он, безусловно, человек верующий, причем верит по-другому, чем гуманисты, например, Петрарка; его вера менее выстрадана и более ортодоксальна, поскольку он никогда не сомневался в официальном учении католической церкви[41]. Религиозность предопределяет у Виллани решение главной задачи истории — осмысление и оправдание путей, по которым идет человеческое общество. На вере покоится присущее средневековому взгляду убеждение в конечном торжестве мировой справедливости, убеждение наивное, но привлекательное в историке, хотя оно не исключает апокалиптического пессимизма. Суд Божий у Виллани выглядит не столько как загробное воздаяние (оно представлено чаще видениями грешников в аду, почерпнутыми из средневековых легенд в первых книгах), сколько как сама судьба в здешнем мире — справедливая кара настигает виновного, путь даже в последние минуты его жизни — плачевный конец, смерть без покаяния, без причащения часто подводит отрицательный нравственный итог деяниям некоторых героев в "Хронике"[42]. Чудеса, знамения, сверхъестественные явления нередки в сочинении Виллани, но и нельзя сказать, что он совершенно некритичен — например, видение огненного столба в Авиньоне хронист истолковывает как радугу — кн. XII, гл. 121. Заметно даже некоторое отчуждение от народного суеверия — так, Виллани с одобрением приводит историю о французском короле, отказавшемся увидеть чудесно воплотившегося младенца, — очевидно, его вера, как и вера короля, не требует такого материального подтверждения (кн. VI, гл. 64)