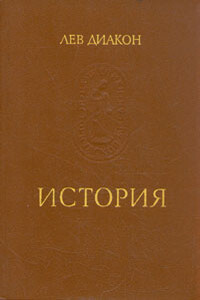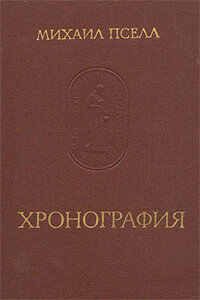Новая Хроника | страница 10
Третий весомый компонент истории, после божественной воли и звезд, — это человеческие страсти. Иерархия грехов (гордость, зависть, неблагодарность, скупость, обжорство, похоть) и добродетелей (мудрость, сила духа, умеренность, справедливость; богословские — вера, надежда, любовь) примерно такова же, как в теологических трактатах того времени — ее мы встречаем и у Данте[45]. Индивидуальными мотивами объяснения поступков не исчерпываются, есть у Виллани и наблюдения над их политическими причинами, отразившимися, в частности, на изменении позиций бывших сторонников церкви или империи после их избрания на папский или императорский престол (кн. V, гл. 35; кн. VI, гл. 23).
Отношение автора "Хроники" к происходящему достаточно определенно — в нем выражаются его взгляды флорентийского патриота, гвельфа, доброго христианина, честного купца и приверженца умеренно-демократического правления зажиточных горожан, сторонника мирного решения общественных споров (кн. X, гл. 138)[46]. В то же время неоднозначность некоторых оценок снискала Виллани репутацию объективного историка[47] — но проявилась она, пожалуй, только в признании выдающихся мирских качеств политических противников Флоренции — Каструччо, Манфреда, некоторых императоров. Вообще, характеристики исторических деятелей, помещенные в "Хронике" на манер античных авторов, довольно колоритны (Карл Анжуйский — кн. VII, гл. 95; Корсо Донати — кн. VIII, гл. 96)[48]. Это одна из причин, почему трудно согласиться с тезисом Ф. Де Санктиса о "бесцветном и безличном" изложении Виллани