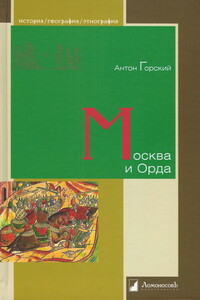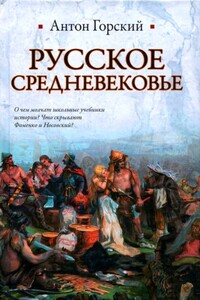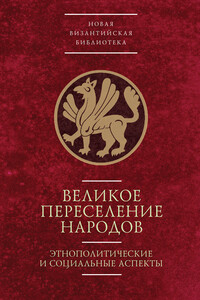«Всего еси исполнена земля Русская...» Личности и ментальность русского средневековья | страница 50
В связи с этим следует обратить внимание на хронологическое совпадение трех вещей. В третьей четверти XI в. происходит отмена кровной мести, т. е. законодательно закрепленного права на убийство[256]. К этому же, скорее всего, периоду относится канонизация Бориса и Глеба. Наконец, именно с третьей четверти XI в. прослеживаются факты отказа от убийства у людей, в целом отнюдь не склонных к воздержанию от насилия. Все это позволяет предполагать, что именно середина — третья четверть XI столетия были в древнерусском обществе временем активного осмысления заповеди, запрещающей убийство. В сфере законодательства это проявилось в отмене кровной мести, в общественной мысли — в христианском осмыслении трагедии Бориса и Глеба. Другие же убийства той же эпохи (начала XI в.) такому осмыслению не подверглись, и о них говорится в источниках так, как они воспринимались современниками — людьми начала XI столетия; это восприятие, по-видимому, еще не отличалось от языческого.
Сложившееся ко второй половине XI в. отношение к убийству сохранялось на протяжении XII — начала XIII столетия. Что касается убиений князей, то в этот период известны три подобных случая. В 1147 г. сведенный годом ранее с киевского стола и постриженный в монахи князь Игорь Ольгович был растерзан толпой киевлян, возмущенных вестью, что родственники Игоря (черниговские князья) якобы задумали захватить и убить их князя Изяслава Мстиславича[257]; в 1174 г. владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский пал жертвой заговора своих приближенных[258]; в 1217 г. рязанские князья Глеб и Константин Владимировичи перебили в Исадах шестерых своих родичей[259]. Отношение современников во всех случаях было сочувственным к жертвам и осуждающим к убийцам. Об убийствах Игоря Ольговича и Андрея Боголюбского были созданы пространные повести (Повесть о убиении Андрея известна в двух редакциях), оба князя были причислены к лику святых[260]. Преступлению рязанских князей была также посвящена специальная летописная повесть[261].
Известен во второй половине XII в. случай отказа князя от убийства вопреки требованиям его сторонников; в 1177 г. Всеволод Большое Гнездо не стал убивать своих плененных племянников (как того требовали жители Владимира), а «всего лишь» ослепил их и отпустил[262].
Как бы оборотной стороной отношения к убийству было отсутствие после отмены в третьей четверти XI в. кровной мести законодательного права на него: вопреки обыденному представлению о «мрачном средневековье» в домонгольской Руси не существовало такого вида наказания за преступления, как смертная казнь