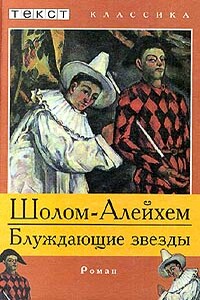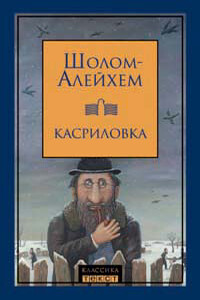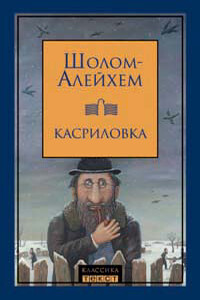Поэзия народов СССР XIX – начала XX века | страница 18
Эту роль в национальных литературах XIX — начала XX века, прежде всего, конечно, в поэзии, сыграл романтизм, который, будучи поддерживаем идеей родины и ее национальной и социальной свободы, нес в себе громадный заряд позитивных, содержательных, общечеловеческих функций и возможностей, что не только сближает его с реализмом (в поэзии это всегда затруднительно раскрыть), но как бы растворяет в нем.
В самом деле, все великие поэты XIX — начала XX века самым тесным образом связаны и с реалистическими и с романтическими формами воплощения мира, причем с преобладанием последних. Мы можем говорить о творцах по преимуществу эпического склада, таких, например, как О. Туманян, но и он к концу жизни, после того как убедился в иллюзорной стабильности системы патриархальных и просветительских ценностей, пошел в своих четверостишиях по пути чисто романтических, трагических философских раздумий.
Эпическое состояние мира, которое столь отчетливо выявлено в казахской, киргизской, каракалпакской литературах, конечно, внешне соблюдает формы жизнеподобия, но это еще не реализм с его аналитичностью, выявлением общественных и личностных связей. Распад эпического состояния мира в художественном сознании неизбежно порождает акцентировку личностных, гражданских, сатирических элементов в поэзии, что и является, по существу, элементами складывающейся реалистической системы, одной из фундаментальных основ которой становится романтическое искусство.
С наибольшей отчетливостью этот процесс проявил себя в 60-70-е годы XIX века, когда литература была частью революционно-демократического движения. К концу же века формы романтизма в национальных литературах приобретают все большее значение. С одной стороны, они были свидетельством художественной возмужалости многих литератур, с другой — ясно говорили о том, что общественная жизнь уже была на пути к буржуазной определенности, однако громадный потенциал демократизма и революционности, накопленный национальными литературами, ведомыми идеей национальной свободы и независимости, не позволял остановиться на ней как на искомом идеале, взыскуя таких человеческих и социальных ценностей, которые могли быть найдены только на путях революционного и социалистического переустройства мира.
Одна из примечательных особенностей этого тома, между прочим, состоит в том, что он воочию показывает, как деятели национальной культуры шли к революции, — по-разному, конечно, но движимые представлениями о народном счастии, — неотвратимо и целеустремленно.