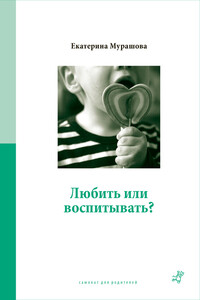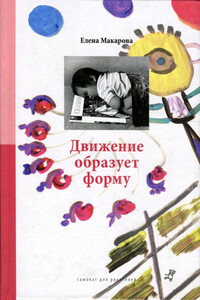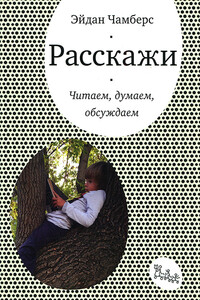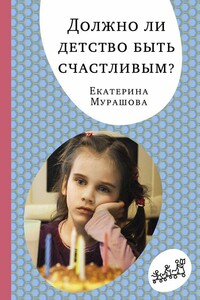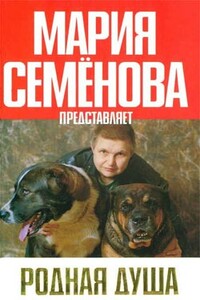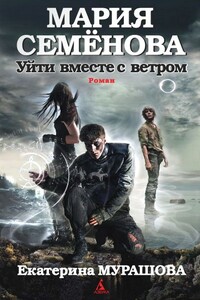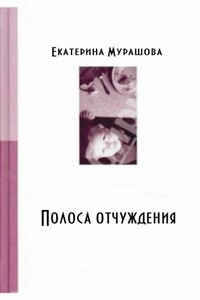Дети взрослым не игрушки | страница 124
Или вот так:
– Он ничего не хочет, понимаете? Самое главное – не хочет думать. Ему же скоро принимать решение: куда после школы? Мы его спрашиваем: что ты хочешь? Он так и говорит: ничего не хочу. Тогда мы спрашиваем так: что же ты будешь делать? В армию пойдешь? Он говорит: в армию я тоже не хочу, но если придется – что же, пойду. Но это год. А потом? Мне просто страшно это видеть, если честно. Какие-то эмоции, только когда в компьютер играет. Или по телефону с приятелями. Иногда я срываюсь, ору на него. Это от страха. Один раз он сказал: так вы же всегда всё за меня решали, чего ж вы теперь-то от меня хотите? Откуда оно у меня возьмется? Я подумал: неужели правда? И что же теперь?
Или вот так:
– Она в школе на хорошем счету. Никогда я ее не заставляла уроки делать, всегда сама. Раньше иногда что-то у меня спрашивала, но теперь уже давно этого нет. Она знает, кем хочет быть, куда поступать, и, скорее всего, поступит. И друзья у нее есть, я их видела: умные, спокойные такие юноши и девушки. При них она со мной нормально себя ведет, видимо, стыдится показать…
– Показать что?
– Мы с дочерью уже года два абсолютно чужие друг другу люди. Она со мной почти не разговаривает. Только если ей что-то надо – деньги или вещи. Ест у себя в комнате и вообще почти оттуда не показывается. Не здоровается со мной и ничего о своей жизни не рассказывает. Я только окольным путем могу что-то о ней узнать. Если я пытаюсь поговорить – она орет, чтобы я не лезла не в свое дело… Да, был период, уже после развода с ее отцом, когда я пыталась устроить свою личную жизнь, может быть, я тогда недостаточно уделяла ей внимания, и теперь она так меня наказывает… Но неужели желание быть счастливой – это такая уж большая вина?
Во всех трех приведенных выше (и им подобных) случаях мы имеем весьма серьезные нарушения детско-родительских взаимодействий. Характеристики и история формирования этих нарушений разные. Есть у них и истоки, лежащие ближе или дальше в прошлом этих семей. Но жить-то надо здесь и сейчас, общаться, смотреть в будущее, формировать его. Именно сегодня подросток на контакт не идет, да и родитель, в общем-то, не очень понимает, как и на чем этот контакт строить (знал был – уже построил). Те или иные попытки наладить взаимопонимание: «давай поговорим как взрослые люди…», «давай разберемся…», «я хочу понять…», «давай заключим договор» и т. д. – как правило, уже состоялись и ни к чему не привели.