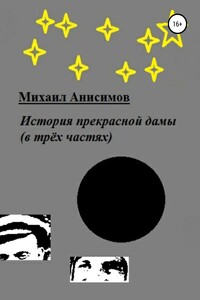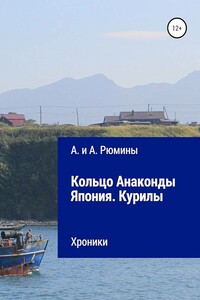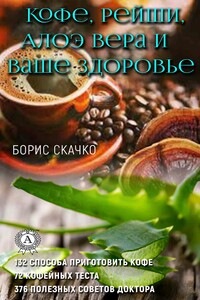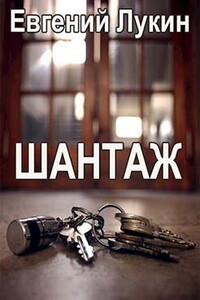Тяжело быть моряком | страница 18
- с помощью ручного привода поднять снаряд краном на высоту оси казённой части орудия, после чего поворотом крана подвести его к открытому затвору;
- опустить снаряд на отведённый в сторону зарядный столик, расстропить снаряд, вернуть зарядный столик в исходное положение и втолкнуть снаряд ручным прибойником в зарядную камору;
- положить на зарядный столик картуз с зарядом, втолкнуть его в зарядную камору и закрыть затвор. Проделать все перечисленные номера с тяжёлым и опасным предметом быстрее, чем за 2 минуты, можно было разве что на состязаниях лучших орудийных расчётов крепостной артиллерии на приз императора. А ведь всё, о чём мы говорили до сих пор - всего лишь полдела. После того, как замочный номер закрыл затвор надо было сделать самое главное - навести посредством мускульной силы прислуги 24-тонное орудие в целом и 10-тонный ствол в частности на движущуюся цель, которая за время заряжания гаубицы весьма значительно изменила своё положение относительно её огневой позиции и по дальности и по направлению. Есть мнение, что первая ласточка (или первый блин) японской артиллерийской промышленности имела скорострельность (надо полагать - боевую) один выстрел в 5 мин. Истина, скорее всего, находится где-то посередине, поэтому в дальнейшем будем считать, что на один прицельный выстрел в условиях противодействия со стороны противника (контрбатарейной стрельбы) осакской гаубице требовалось около 3-4 мин. вторым основным орудием японской береговой артиллерии была 240-мм пушка образца 1890 г. Принадлежавшая к одному поколению с 280-мм гаубицей она и отличалась от неё только калибром (масса снаряда 150 кг), как и положено пушке - длиной ствола (23 калибра) и конструкцией лафета. В главном же "осакские сёстры" были идентичны: подача боеприпасов посредством крана, раздельно-картузное заряжание, ручные приводы механизмов наведения и, как следствие - неповоротливость и медлительность. По дальности стрельбы (9 км) пушка немного превосходила гаубицу, по скорострельности - вряд ли.
К счастью для нас на вооружении приморских крепостей Японских островов не было и не могло быть 150- и 120-мм скорострельных морских пушек Армстронга, адаптированных для нужд береговой обороны. При наличии на жизненно важных оборонтельных рубежах однородных по составу вооружения береговых батарей, обладающих повышенной огневой производительностью, даже при отсутствии сплошных минных заграждений любому агрессору мало не показалось бы. Но к великому удовлетворению для нас 150- и 120-мм скорострелки Армстронга были жизненно необходимы флоту - главному инструменту имперской внешней политики. Именно поэтому ни одна приобретённая в Англии или изготовленная по лицензии на флотском арсенале в Куре пушка и ни один ствол, предназначенный на замену расстрелянным в боях или на учениях, не могли уйти на сторону - для какой-то там армейской береговой обороны, в то время как флот был создан для нападения и только для нападения. То, что досталось береговой обороне, то есть армии, не производит особого впечатления. Это был типичный набор образцов, который образуется тогда, когда какой-либо род войск вооружается по остаточному принципу. 150-мм пушек было мало (в Токийском заливе - всего 8 и относились они по меньшей мере к двум моделям: Круппа и "Сен-Шамон", обе образца 1890 г. Стреляли они, надо думать, 40-45-кг снарядами километров на 10 со скорострельностью не более 2-х выстрелов в минуту . 120-миллиметровок был целый выводок - Шнейдера, Канэ, Круппа, Максима образцов в основном 1893-1896 г.г. При массе снаряда около 20 кг их дальность стрельбы находилась в пределах 7,5 км , а скорострельность - порядка 3-4 выстрела в минуту (пусть не смущают читателя 12 выстрелов в минуту, произведённых из пушки Канэ на презентации орудия русской делегации в 1891 г. - реклама, она и в XIX веке реклама).