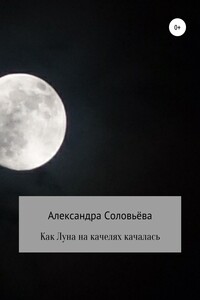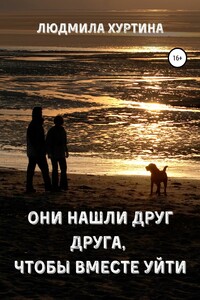Формулирование психоаналитического случая | страница 67
Причина, по которой я обращаю на это внимание в книге о формулировании случая, заключается в том, что, хотя и кажется само собой разумеющимся, что терапевт дает пациенту возможность выразить свои чувства о голой правде жизни, я часто сталкиваюсь с терапевтами, которые избегают этого. Необходимая для клиента изначальная готовность работать с определенным терапевтом основывается на его ощущении, что терапевт не будет уходить от обсуждения жестокой реальности, с которой сталкивается человек. Вероятно, уклоняющиеся от этого клинические специалисты полагают, что, если они не в силах облегчить страдания, они могут просто обойти их стороной; или же они могут тяготиться тем, что их репутация подрывается, когда они не в состоянии проявить искреннее сочувствие, поскольку сами не сталкивались ни с чем похожим в своей жизни. Я думаю, что среди других мотивов есть и наш страх обратить внимание на сферы, в которых клиенты (если им дать такую возможность) будут открыто говорить о зависти или ненависти к сравнительно более удачной судьбе терапевта и, таким образом, запускать в нас вину выжившего (Lifton, 1968)>22 и обнажать нашу неспособность к репарации.
22 Вина выжившего (англ, survivor guilt) — одно из проявлений посттравматическо
го стрессового расстройства, возникающее у людей, которые выжили (или пострадали меньше) в результате трагических событий (катастроф, военных действий, суицидов
и смертей близких и т. п.), в то время как другие жертвы — нет (или пострадали боль
ше). Впервые введен в 1960-х гг. для описания состояния бывших узников концлагерей
(«синдром узников концлагерей»). Характеризуется тревогой, чувством вины, потерей желаний, жалобами на физическое здоровье, нарушением сна и т. п.
Авторы, пишущие о своем опыте работы с национальными меньшинствами (например, Boyd-Franklin, 1989; Sue & Sue, 1990), настойчиво призывают клинических специалистов поддерживать пациентов в обсуждении их переживаний о расовой и национальной принадлежности и в особенности различий между ними и их терапевтами. Тот факт, что об этом постоянно идет речь, говорит о том, что у терапевтов есть сильное сопротивление открытости в отношении различий. Я работала с супервизантами европеоидной расы, в обычных обстоятельствах опытными людьми, которые постоянно «забывали» спрашивать своих афроамериканских клиентов, что они думают о работе с белыми терапевтами. Меня это обычно раздражало, но недавно я сама оказалась в такой же ситуации, когда на первичном интервью цветной клиент сам не сказал ни слова о расовых различиях между нами. Существует множество общественных договоренностей о том, что прилично и что неприлично упоминать в разговорах, что идет вразрез с эффективной клинической работой и, несомненно, является проявлением бессознательного расизма и этноцентризма, не в меньшей мере мешающего искренности, без которой проведение психотерапии невозможно. («Это психоанализ, а не званый ужин», — отреагировал один из моих супервизоров на мое нежелание прямо спрашивать азиатскую пациентку, что она думает о работе с человеком, чье прошлое столь сильно отличается от ее опыта.)