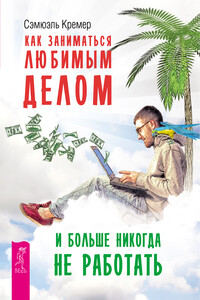Формулирование психоаналитического случая | страница 48
должна упомянуть и об одном исключении из своего общего правила, которое относится к клиентам с выраженной психопатией. С такими пациентами я с самого начала придерживаюсь довольно строгих правил, касающихся их финансовой ответственности за каждую сессию вне зависимости от того, пришли они или нет.
Одна из причин, по которой я не беру деньги за пропущенные сессии, заключается в том, что я принимаю у себя дома. Если сессия отменяется, я не оказываюсь в чужом арендованном помещении, теряя время и не зная, куда податься. Я всегда могу использовать это время если не в профессиональных целях, то для каких-то домашних дел. В то же время я беру оплату за «неявку», если я сижу в своем кабинете и жду пациента. Я не обсуждаю правила отмены на первом интервью, но поднимаю этот вопрос, когда возникает соответствующая ситуация, и использую эти правила только после того, как они были озвучены. Опытные пациенты часто спрашивают о правилах отмены, и, если они удивляются, я с удовольствием объясняю им причины отсутствия каких-либо условий.
Официальный диагноз
Часть моего обучения терапии прошла в окружении довольно авторитарных психиатров, которые пропагандировали идею, что пациент не должен знать свой диагноз. Они обосновывали свою позицию тем, что это может расстроить, а также способствует активизации защиты в виде интеллектуализации. Меня уже тогда возмущали подобные взгляды, сейчас же я настроена еще более негативно. По моему мнению, такое отношение негласно поддерживает недосягаемую власть терапевта, обладающего сокровенным и непостижимым знанием. Мистификации не место в терапии (см. Aron, 1996). На мой взгляд, рассказать о диагнозе, объяснить его основания и обсудить, насколько выбранный вид лечения подходит для лечения, — вопрос проявления элементарного уважения со стороны терапевта, не говоря уже о том, что любой, у кого есть страховка, может узнать свой диагноз, сопоставив код заболевания на счете с аналогичными цифрами в DSM. Мне кажется, что обычай скрывать диагноз от пациента также поддерживает мнение, что эмоциональные проблемы есть нечто постыдное и, значит, нам следует говорить о них эвфемизмами, а не так, как мы обычно об этом думаем.
Иногда — по моему ощущению, это нетипично, но кажется мне разумным — я даю пациенту DSM и показываю ему одну или несколько диагностических категорий, которые имеют отношение к приведшим его на терапию проблемам, и спрашиваю, насколько это название кажется ему точным для описания его проблем или какая из возможных формулировок его диагноза является более верной. Таким образом, мы вместе ставим диагноз. И в процессе этого появляется интересная информация. Мои клиенты, читая описание симптомов общей категории, которые подходили для определения имеющейся у них психопатологии, потом говорили: «О! Забыл вам сказать. У меня есть и эта проблема тоже. Я не думал, что это относится к делу». Женщина, чей маниакальный синдром я пыталась правильно определить на протяжении нескольких месяцев (поскольку он проявлялся яростью и был больше похож на резкую критику, свойственную пограничным состояниям, чем на манию), однажды, читая предложенное мной описание биполярного процесса в DSM, воскликнула: «У меня же есть скачка идей! И я шопоголик!