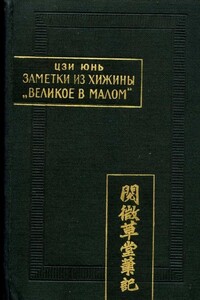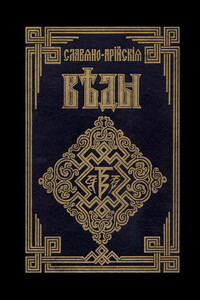Чхандогья упанишада | страница 11
Являясь произведением прежде всего дидактическим, своего рода сборником поучений и размышлений, Ч одновременно представляет собой и интересный литературно-художественный памятник. Дидактические функции здесь, как и в некоторых других упанишадах, осуществляются с помощью ряда литературных приемов, делающих изложение более живым, наглядным, в известной степени даже драматичным[49]. Прежде всего это прием диалога или беседы нескольких лиц. Такие разговоры служат обычно обрамлением нескольких глав и даже целых частей (напр., Шветакету и затем его отца с Праваханой — V.3-10; шести брахманов с Ашвапати — V.11 и сл.; Уддалаки со Шветакету — VI; Санаткумары с Нарадой — VII и др.)[50]. Излагая свои мысли, говорящий иногда вводит загадки — напр., пять вопросов Праваханы Шветакету (V.3.2–3); загадка ученика Шаунаке и Абхипратарину об одном божестве, поглотившем четырех (IV.3.6), и др. Встречаются риторические вопросы (cp. I.1.4; VI.2.1–2; 8.4; 6).
Очень часты сравнения — как краткие (напр., I.4.3; 6.7; 12.4; III.13.8; IV.16.5; V.24.1; 5; VI.1.4–6; VIII.3.2), так и развернутые аллегории: мир сравнивается с ларцом (III.15.1–3); периоды жизни человека — с жертвенными возлияниями (III.16); встречаются сравнения с игрой в кости (IV.1.4; 6; 3.8), с жертвенным огнем (V.4–9); ряд аллегорий содержат поучения Уддалаки об Атмане (VI.7-16) — например, сравнения с разжиганием огня, реками, впадающими в море, плодом смоковницы, заблудившимся человеком и т. д.[51]
Характерна афористичность отдельных выражений. Таково, например, неоднократно повторяющееся tat tvam asi (VI.8.7; 9.3; 10.3; 11.3 и сл.), определение Атмана (VIII.7.1; 3) и др.[52]
Распространены повторы — буквальные или с незначительными вариациями — отдельных выражений, анафоры, эпифоры и т. п.[53] — напр. I.10.9-11; II.4–9; II.11.2 (ср. 12.2 и 13.2); III.1.3–4 (ср. 2.2–3 и 3.2–3 и сл.); III.14.3 и 4; V.l; V.12.2 (ср. 13.2 и 14.2 и сл.); V. 20–23; VI.4.1–4; VII.1.5 (ср. 2.2 и 3.2 и сл.); VIII.2.1-10. В некоторых главах встречаются удвоения заключительных фраз или отдельных их слов (I.3.12; 5.5; 7.9 и др.) — возможно, с целью обратить внимание на важность повествования или на завершение очередного отрывка (ср. ниже, стр. 29)