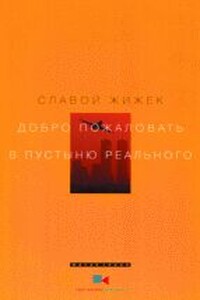Возвышенный объект идеологии | страница 56
Дело не только в том, что первоначальная форма проявлен™ события (к примеру, усиление личной власти Цезаря) слишком травмирует людей и поэтому оказывается, что они не в состоянии уяснить себе его реальное значение. То, что сначала событие понимается превратно, является «внутренним» условием его символической необходимости, задает саму возможность его последующего понимания. Первое убийство (убийство Цезаря как отцеубийство) конституирует виновность - и именно эта вина, этот долг оказывается истинной движущей силой повторения. Событие повторяется не само по себе, по некой объективной необходимости, не зависящей от наших пристрастий и вследствие этого непреодолимой, а потому, что это повторение является возмещением нашего символического долга.
Иными словами, повторение свидетельствует о возникновении Закона, Имени Отца на месте мертвого, убитого отца, - события обретают свою законность ретроактивно, повторяясь. Вот почему повторение у Гегеля следует понимать как способ перейти от произвольности к закономерности, как придание произвольности определенного теоретического значения, то есть как жест интерпретации par exellence, как символическую апроприацию травматического, не поддающегося символизации события (согласно Лакану, интерпретация всегда осуществляется под знаком Имени Отца). Возможно, Гегелем впервые было ясно выражено то, что акт интерпретации конституируется задержкой: интерпретация всегда запаздывает, она осуществляется с некоторым опозданием, когда события, подлежащие интерпретации, повторяются; событие, происходящее впервые, не может быть закономерным. Это та самая задержка, о которой Гегель говорит во введении к «Философии права», в знаменитом фрагменте о сове Минервы (то есть о философском осознании той или иной эпохи), которая вылетает только в сумерках, когда эта эпоха уже подходит к концу.
То, что «мнение народа» видело в действиях Цезаря индивидуальный произвол, а вовсе не историческую необходимость, не является, следовательно, просто одним из примеров того, как «сознание не поспевает за происходящим»: дело в том, что сама эта необходимость (которую при первом ее проявлении ошибочно принимают за произвол) конституируется этим неузнаванием, реализуется в нем. Неудивительно, что ту же логику повторен™ можно заметить в истории психоаналитического движения: Лакану было необходимо повторить свой разрыв с Международной психоаналитической ассоциацией (МПА). Если первый раскол (в 1953 году) еще воспринимался как травматическая случайность - сторонники Лакана пытались сгладить разногласия с МПА и воссоединиться, - то в 1964 году их «мнению» стало окончательно ясно, что разрыв неизбежен, поэтому отношен™ с МПА были прекращены и школа Лакана стала независимой.