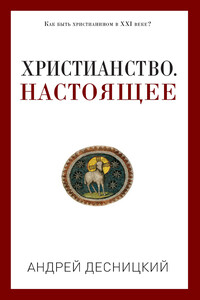Типичные ошибки экзегетов | страница 8
«А на самом деле там происходило вот что…»
С подобным вниманием к особенностям менталитета связана любовь к реконструкциям. В самом деле, чтобы понять точное значение библейского текста, нам просто необходимо бывает чётко представить себе, что именно там происходило и почему оно происходило именно так. К сожалению, далеко не всегда это можно сделать с достаточной степенью достоверности (особенно в том, что касается Ветхого Завета), и здесь исследователю нужна немалая степень трезвости и скромности, чтобы отделить собственные фантазии от достаточно вероятных построений.
Пример такой спорной и ничего не проясняющей реконструкции — вопрос о том, как именно состоялся переход израильтян через море. Было ли это действительно Красное море, воды которого, вопреки законам физики, разошлись и стали стеной? Или это были некие болота в районе нынешнего Суэцкого канала, которые при соответствующих погодных условиях могли превращаться из легко проходимых в гиблые топи? В любом случае библейский текст понимает это событие как чудо, а конкретный механизм чуда вряд ли может быть раскрыт.
Много таких реконструкций выстраивается на лингвистическом материале. Например, в Ветхом Завете встречаются слова и выражения, которые употреблены всего 1–2 раза, и выяснить их точное значение невозможно (при чтении Нового Завета всё же помогают другие тексты, написанные на древнегреческом языке). Один из самых распространённых способов — найти однокоренное слово в других семитских языках, например, угаритском или даже аккадском. Насколько достоверны такие реконструкции, можно представить на следующем примере: если мы попробуем определять значения русских слов по словарям болгарского или польского языка, многие слова мы поймём правильно, но и ошибок будет немало, и мы никогда не можем быть уверены в том, что польское значение совпадёт с русским.
«Автор, безусловно, имеет в виду…»
Нередко подобные реконструкции истории текста призваны прояснить авторскую позицию. Почему, например, евангелист Матфей приводит деталь, которую опускает Лука, или наоборот? Здесь, как и в случаях с реконструкциями, некоторая доля таких рассуждений просто необходима, но трудно бывает вовремя остановиться.
Немало таких рассуждений возникает и при попытках объяснить возникновение и развитие того или иного текста (прежде всего Евангелий), о чём было сказано в предыдущей главе. Безусловно, такие догадки могут быть интересны и полезны, но когда текст единой книги препарируется, из него лишь отдельные элементы берутся в качестве значимых, а остальные объявляются поздними и недостоверными, то главным критерием выбора неизбежно становится произвол исследователя. Например, для школы “демифологизации” по Р. Бультману одним из основных критериев при анализе Евангельских текстов служит ожидание скорого Второго пришествия. Если по тексту выходит, что оно должно состояться буквально сейчас, то текст объявляется изначальным и подлинным. Но если текст предполагает, что Пришествие может состояться нескоро, то, по мнению исследователей, он был добавлен в более позднее время, зачастую именно для того, чтобы объяснить, почему Пришествие задерживается (так называемая “отложенная парусия”).