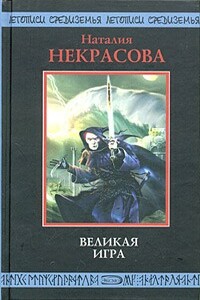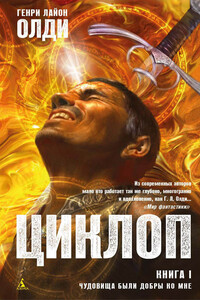Летопись 2. Черновики | страница 23
Они были почти готовы, все Девять, оставалось совсем немного — и тут я понял, что едва не совершил ошибку. Ошибку, которая стала бы непоправимой. Потому что с частью своей силы в каждое из Девяти я вкладывал часть себя самого — и те, кто надел бы их, со временем обречены были превратиться в мое подобие — в мою тень…
И замысел мой стал мне казаться почти неосуществимым.
Сильные худые пальцы сминали металл оправ, как мягкую глину: все было зря. Он так ничего и не сумел. Фаэрни уронил голову на руки и замер: навалилась усталость и смертная тоска, от которой хотелось бежать, бежать прочь, не разбирая дороги…
Все зря. Бесполезно. Бесполезно…
И тут ему показалось, что чья-то рука ласково и легко коснулась его плеча. С трудом он поднял словно свинцом налитую голову — в распахнутом окне на черном бархате ночи сияла Звезда.
И, судорожно вздохнув, он заговорил — словно рухнула какая-то преграда — сбивчивым, горячим шепотом, не отводя взгляда от звезды, мерцавшей в такт биению сердца; он говорил и говорил, и мир расплывался в его глазах, тонул в какой-то мерцающей дымке, и казалось уже — напротив за столом сидит он, тот, кого фаэрни уже не надеялся встретить никогда; Ортхэннэр только смутно различал лицо в звездном мерцании, но знал — Учитель смотрит на него с той бесконечной всепрощающей любовью, с тем удивительным, невыразимым словами пониманием, по которым так мучительно тосковал он все эти века — больше он не был один, их было — двое, танно-а-тъирни, и он торопился рассказать, выговориться, зная — и не веря, что все это морок, бред, наваждение, что не может, не может быть этой встречи вне времен и миров — он говорил и говорил, едва не плача от тоски, от щемящей боли обретения и потери, от горького счастья постижения… А когда он умолк, Учитель поднял обожженные ладони, и ярко вспыхнула в них искорка чистого голубоватого пламени — разгорелась — пламя взлетело жгутами, переплетаясь с какими-то тонкими хрустально-светлыми нитями, вбирая их в себя… словно сплетенные пальцы рук — пламя и тьма, и ветер, и песнь — вечно изменчивая, распадающаяся на тысячи голосов, шорохов, шелестов — снова сплетающаяся, сливающаяся в одно — ветер, поющий в сломаном стебле тростника — звон металла — звон струн — танец огня… живая душа билась в его ладонях — смятенная, еще не обретшая себя, лишенная цельности, лишенная имени — суть рождающейся души, рождавшейся для бесконечности пути — и тогда Ортхэннэр понял: именно так это и должно быть…