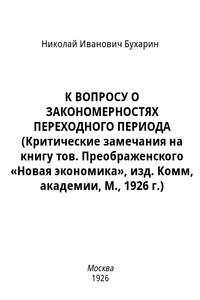Философские арабески | страница 9
Ребёнок, это не вы, а другое.
Вы не можете «переживать», как ребёнок.
Никаких «моих» ощущений здесь нет и в помине. Здесь предполагается его ощущения (то есть вы уже́ выпрыгнули из категории «моих»). Да вы ещё говорите не о конкретном ребёнке, а о ребёнке вообще, то есть делаете сводку и обобщения наблюдений над рядом детей.
Другими словами, вы предполагаете, кроме себя, ещё целый ряд маленьких субъектов (а, следовательно, volens-nolens[39] и окружающий их мир). Для отрицания мира вы хватаетесь за утверждение мира. Это, может быть, тоже диалектика, но да избавят нас от неё бессмертные боги!
Это вы делаете salto vitale, которое оказывается salto mortale для всей вашей гнилой, с позволения сказать, философии!
Значит, целиком подтверждается полная логическая несостоятельность всей школы солипсистов, агностиков-позитивистов и tutti quanti[40]. Их непосредственно-данное — никакое непосредственно данное, и продукт (логически) весьма скверного анализа. Таким образом, мы приходим к тому, что есть и другие люди, и внешний мир. Приходим к этому без всякого, «salto». Да иначе и быть не могло. Совершенно чудовищно представление, по которому логика и мышление, которое есть удлинение практики, вращались бы в совершенно противоположных и абсолютно разорванных навсегда разобщённых, предпосылках, т. е. практически трансформировала бы тот мир, который теория бы отрицала. Действительный опыт, опирающийся на гигантское развитие человечества и на всю его практику, по сути дела на всю жизнь, говорит о совершенно другом. У солипсистов — ни грана диалектики, ни грана исторического. Какое-то деревянное сумасшествие заскорузлость одиночки, величайшая бедность и духовная нищета интеллектуального кустаря, обеспложенный мир, втиснутый в маленькую черепную коробку.
Спрячьте свой язык, господин Мефистофель!
Спрячьте свой блудный язык!
Глава Ⅱ. О приятии и неприятии мира
Аргументация солипсистов, как мы видели, является дырявой аргументацией. Но все философские течения, подобные солипсизму, субъективному идеализму вообще, агностицизму и скептицизму[41], о котором Гегель — говорил в «Истории философии», как о чём-то неопровержимом, выглядят более или менее горделиво, лишь когда речь идёт о т. н. «чисто логическом» сражении с ними, хотя и тут они обречены на поражение. Принято в философии вести дискуссию в ограниченной плоскости самых высоких абстракций, точно нельзя подрыть и разрушить эти самые абстракции