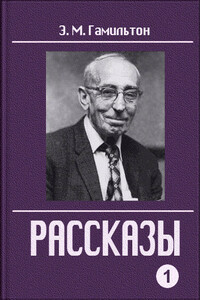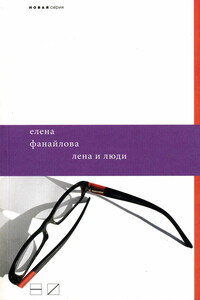«Звезды русской провинции» | страница 7
по большей части довольно сомнительным украшением
(«он такой красивый, такой подстриженный»),
вполне продаваемо,
легко (нелегко) обмениваемо
на вещества (вещи), уплывающие вдоль Скандинавии, как прах
завещавшего не зарывать себя вундеркинда, шею —
сосуды, нервы, гортань — разорвавшего вскоре петлей. Ниже
ноги упавшего табурета. Многие вспомнят это, как положено, на его
пОхоронах/похоронАх.
«Чем занималась?» — «Трах —
алась.»
Откуда вообще взялась.
Поймала на Каменных
Илюшу,
которого я когда-то пьяный внимательно слушал,
приглашал к себе в гости на какое-то (не скажу, смешно) блюдо.
Он периодически просто чудо,
да поможет ему ради всего святого/рифмы Аллах.
Жалко — ах — кончились деньги, за исключением маминых.
Деньги кончились вовсе. Money in Gulfstream.
На улице ручейки и лужи.
Крачки летят к горизонту, всюду. Ну же.
Ветер южный.
Невымытая посуда
на чужой квартире. Вспоминаю всякую чушь, еще до дважды
два четыре имевшую место.
Прятаться в темном подъезде,
которого я боюсь. Рисовать на асфальте стрелки. Обернуться и
увидеть определенное происходящее — «будут чувства,
будут стихи». Будет заметная, важная
в силу сознательности коротковатость штанин Ильи — здОрово —
придет в голову, когда ноги по косточку в блюдцами
бьющийся провалятся наст. А нас уже нет.
Пусто.
Через несколько лет
давай заблудимся выше
в горах. И чтобы промочить губы, пересохшие от пути, кистями рук
станем плескаться в холодном ручье. Редкий лес, и мы шествие в нем продолжим.
Днем я проголосую обратно в пользу зимы.
Не зарекаются от тюрьмы,
сумы и мачо.
Где-то пройдут поезда — не плач, не прячу —
их топот нам будет слышен
за линией верхушек елей. Спросишь: «Может быть, посидим?». Сели. Круг,
которому необходимо учиться, нами еще не проделан, не прожит,
вдруг
увижу это по дрожи.
Стук.
Небо оближет трелями дятел.
Брось — я для тебя никогда ничего не значил.
Гитлерюгенд
Мои ладони дары все отвергнут, данке.
У меня есть мундир, пистолет, полбанки
варенья спрятано у кровати.
Пост, на котором стою всю ночь, как лунатик,
никому не нужен: заброшенный парк под Берлином и за́мок,
длинные волдыри звездного света на воде пока
еще не илистого пруда. Всех лебедей съели.
Unkenrufe. И хлопают крылья чьи-то — летучих мышей? — еле-еле,
и дрожат мои пальцы. Волосы — на руках, на шее —
дыбом, цепляют сукно, как душу цепляет
игра молоденького викария на органе
или вид топора палача на смертельной ране,
а совесть — подколенные ямочки шлюхи
или мамины оплеухи.
Книги, похожие на «Звезды русской провинции»