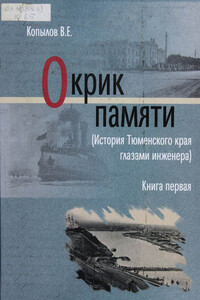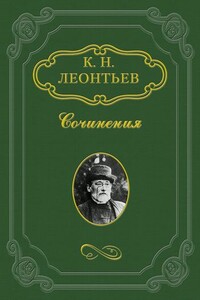Фашизм — враг науки, культуры и цивилизации | страница 17
И для того, чтобы больше оттенить это германское чванство прусского военного, Салтыков-Щедрин здесь же проводит параллель с русским офицером: «Наш русский офицер никогда не производил на меня такого удручающего впечатления. Прежде всего, он в объеме тоньше и грудей у него таких нет; во-вторых, он положительно никому не тычет в глаза: я герой! Русский человек способен быть действительным героем, но это не выпячивает ему груди и не заставляет таращить глаза. Он смотрит на геройство без панибратства и очевидно понимает, что это совсем не такая заурядная вещь, которую можно всегда носить с собою в числе прочей амуниции». (Там же, стр. 65).
На те же проблемы великодержавного всегерманского шовинизма, на бред и мечтания тевтонских завоевателей о правах «белокурой бестии» на порабощение и уничтожение народов обращал свое внимание и наш великий ученый-революционер К. А. Тимирязев. Он писал в 1887 году:
«Но это эволюционное мировоззрение, одним из главных устоев которого является дарвинизм, — не может ли оно сослужить человеческой мысли и более общую услугу? Не может ли оно служить опорой в минуту ее шатания, разочарования, близкого к полному отчаянию? Когда голос разума заглушается бряцанием оружия, когда открыто провозглашается, что «сила — и на этот раз недвусмысленная, грубая сила — выше права»; когда величайшее из человеческих бедствий именуется «Frischer, frӧhlicher Krieg» («бодрая, веселая война»), — в подобные мрачные минуты не отрадно ли остановиться на мысли, что если разумная воля человека является могущественным фактором развития, то его неразумная воля может, пожалуй, задержать, затормозить, но бессильна остановить тот, сметающий на своем пути всякое сопротивление, безличный стихийный мировой прогресс, о котором так ясно и согласно свидетельствуют и звездное небо, и развитие органического мира, и исторические судьбы человеческой мысли?». (Собрание сочинений, том VII, стр. 325—327).
Те же традиции и империалистическая разбойничья идеология влиятельных кругов германского юнкерства и буржуазии приковывают к себе внимание нашего великого ученого, революционера и гуманиста в 1904 году:
«Чему же учит эволюция человечества в его ближайшем прошлом, в каком направлении движется она, какие силы выдвигает вперед, как главнейшие факторы будущего? — Науку и демократию. Сильная наукой демократия, наука, опирающаяся на демократию, и, — как символ этого союза, — явление почти неизвестное прошлым векам — демократизация науки: вот несомненный прогноз будущего. Отсюда понятно, что люди настоящего, торжествующее мещанство, ставят на пьедестал философа, обнимающего своей ненавистью и демократию и науку. Не знаю, по какому недоразумению принято считать Ницше бичом буржуазии, когда его учение осуществляет самые сокровенные ее вожделения. Не обладающем наследственной аристократией прошлого он предлагает соблазнительную перспективу благоприобретенной аристократии будущего, к тому же очень просто достигаемой свободным проявлением всех пороков старой. Подхватив мельком брошенную Дарвином мысль о будущем развитии умственного и нравственного типа человека, Ницше лишает эту мысль прогрессивного ее содержания и создает свой репрессивный тип с его «Моралью господ», весь сотканный из воспоминаний темного прошлого и его пережитков в самых неприглядных сторонах современной ему германской жизни. Говорят, — это страстная защита прав личности; может быть и так, но почему же у английского мыслителя средины века (Д. С. Милля) эта защита вылилась в слова on liberty (к свободе), а у немецкого философа бисмарковской эпохи — слова Wille zur Macht (воля к власти)? Что бы ни говорили, а несмотря на свою, кажущуюся оригинальность, Ницше не ушел от рокового влияния своей среды и времени, и, когда читаешь его изображение сильного волей человека, представляется, что напрасно в поисках за ним восходить к Борджиа или хоть к Наполеону: он мог его гораздо ближе найти в молодом юнкере Бисмарке, разбивающем пивную кружку на голове ненавистного ему демократа. Каково бы ни было временное торжество этого типа, можно с уверенностью сказать, что не ему принадлежит будущее: вся предшествующая эволюция человечества служит тому порукой!» (Из предисловия ко 2-му изданию сборника статей «Насущные задачи современного естествознания»).