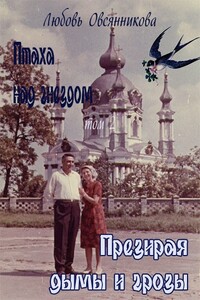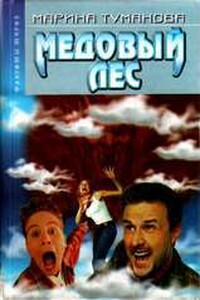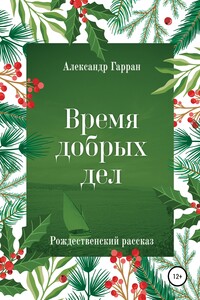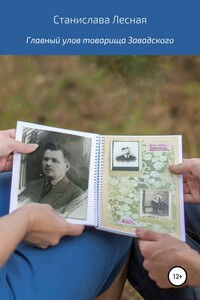Москва – Багдад | страница 96
Знание множества языков можно было целиком отнести к восточной традиции в Гордеевом образе жизни. Собственно, как и внешнее обустройство этого образа — дом Гордея был разбит на две территории, на мужскую и женскую, и правила входа на них или запрета входа соблюдались обитателями дома неукоснительно.
Ну а дальше шли различия. Гордей не согласился оставлять сына на женской половине до его отрочества, а забрал к себе после достижения одного года.
— Представь себе, — с возмущением говорил он Зубову, — что личность человека формируется в возрасте от рождения до трех лет. И что, я при этом оставлю своего сына там, где нет веского мужского слова, нет русской речи и где властвует чуждый дух? Да никогда! Ты будешь заниматься с ним!
— Как скажете, Гордей Дарьевич, — ответствовал кроткий Зубов. — Я же для того и остался с вами, чтобы служить.
— Да, — успокаивался Гордей. — А днем мы будем Глеба выводить в сад, к нянькам. Пусть они с ним гуляют, кормят обедом, моют, переодевают и укладывают на дневной сон. А потом опять — к нам. Завтрак и ужин он должен проводить с нами, равно как и прогулки по утрам и вечерам.
— Разумно!
— В нашей половине не должно звучать ни одного чужестранного слова. Только русский. Безупречный русский! С образностью, мой друг, с полезными ссылками.
— Непременно!
— Мальчик должен быть с нами в трудах и в досуге. Правильно Василий Григорьевич?
— Конечно, правильно, — соглашался Зубов. — Ведь он — ваше продолжение.
***
Но каков был у Гордея досуг? О его увлечении воспитанием сына, изучением языков, любомудрием, Святым Писанием, о встречах и беседах с людьми уже достаточно сказано. Эти заботы занимали почти все время, свободное от дел, а после них оставался только сон. Затем все повторялось: возникали новые рассветы, текли дни, приближались закаты... Однообразие жизни не утомляло Гордея, ибо он умел радоваться новому свету, новым встречам с миром, с солнцем. И каждый миг берег, как драгоценность. Слишком рано ему дано было ценить жизнь.
В ту пору люди не так много путешествовали, как сейчас, да и не рассматривали путешествия как вид досуга, как отдых. Их поездки не были связаны с изучением мест, с пустым ротозейством или с развлечением, а имели другие цели, вызывались практическими нуждами — получением образования, лечением, свиданиями с родственниками, частью труда, который кормил... Самое большее, что они могли позволить себе, разнообразя быт, это сезонные миграции: летние выезды на дачи, да осенние — на воды. Но это в России. А в Багдаде, — Богом данном месте, — в городе постоянного лета, какие могли быть дачи, если в самом центре стоит твой дом и тихий сад за ним, и речка рядом, дышащая свежестью?