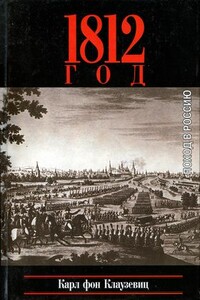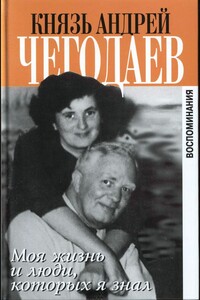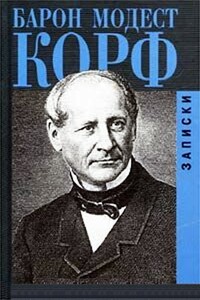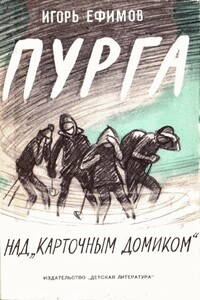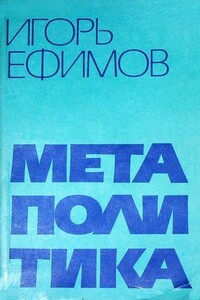Нобелевский тунеядец | страница 48
Нет, интересные мемуары и сатиры продолжают выходить в сам- и тамиздате и поныне. Но все они уже пишутся людьми, выросшими внутри империи и только затем порвавшими с ней. И в этом смысле интересной — по необычности судьбы, по промежуточности позиции — является фигура Зощенко.
Пастернак, Булгаков, Ахматова, Мандельштам были осколками русской культуры, разбитой революцией
1917 года, чуждыми накатившей советчине, неумело пытавшимися как-то ужиться с ней, но никогда не принявшими ее сердцем. Зощенко же (хотя и был моложе Булгакова всего на четыре года) старого мира не любил, а новый принял как свою естественную стихию. (Его биограф Вера фон Вирен пишет, что в 1917 году в Архангельске у него была возможность эмигрировать — он не воспользовался ею, а вступил в Красную армию.) При всей упоительной безжалостности его пера в нем всегда жил человек, чувствовавший себя ответственным за творившееся вокруг, принадлежащий эпохе. Он по-гоголевски верил в возможность и необходимость исправления нравов литературными средствами.
Это очень ясно проявилось в 1946-м, во время анафемы, провозглашенной Ждановым.
Хам имеет особое чутье на несломленного интеллигента — главный признак, по которому Жданов соединил столь непохожих Зощенко и Ахматову в качестве объекта показательной казни. Но принципиальная разница проявилась в реакции жертв на обрушившиеся на них кары.
Ахматова, уже многие годы воспринимавшая свою жизнь вне тюремных стен как некое чудо, как Божью милость ("...и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград"), приняла ждановские проклятья относительно спокойно. Когда несколько месяцев спустя на встрече с делегацией английских студентов она признала "справедливость партийной критики", это было не просто попыткой спасти себя и сидящего в лагере сына. Позднее, объясняя свой поступок, она сказала Лидии Чуковской примерно следующее: "Когда он говорит, что моя поэзия чужда советской жизни — как я могу не согласиться?"
Зощенко был не просто испуган, подавлен, разбит. Он был ошеломлен. Он никогда не ощущал себя против. Защищаясь, он искренне пытался доказывать, что ничего худого и антисоветского не имел в виду. Возражая против критики, он навлекал на себя еще больший гнев властей, но не мог остановиться. Когда-то он написал в "Голубой книге": "Пятьсот афинских матросов и торговцев присудили к смерти Сократа за его неправильные философские воззрения". Почему же он так изумился, когда нечто подобное случилось с ним самим?