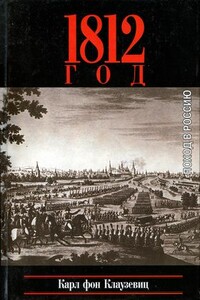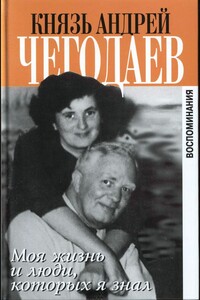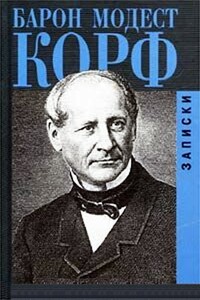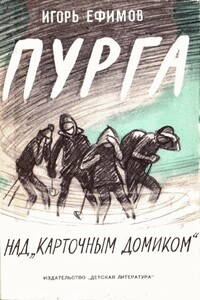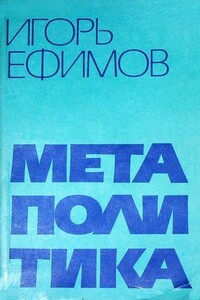Нобелевский тунеядец | страница 47
Он сам не заметил, как эти жизнеописания сделались самым важным делом для него. Он отдавал им почти все время и терял литературные приработки. Семья нищала. А тут родилась еще третья дочь. Но он не мог остановиться.
Видя мой искренний интерес, он любил делиться со мной своими находками. Было в его затее какое-то редкое сочетание серьезной целеустремленности с полным бескорыстием. Он не собирался публиковать свой труд, не собирался использовать собранные материалы для каких-то литературных работ. Родители его ничем особенным не проявили себя в жизни. Он не надеялся отыскать среди своих предков владетельных князей или великих писателей. Им двигала страсть к собственному прошлому как таковому. Он просто переплетал свою летопись в толстые тома, которые "издавал" в трех машинописных экземплярах — по одному каждой дочери.
У кого-то из древних историков я прочитал (и пересказал Аннинскому), что в Древнем Риме поначалу не было деления на классы патрициев и плебеев. Разделение это происходило медленно и выражалось на первых порах не во власти, богатстве и правах, а только в одном: патрициями назывались те, кто знал своих отцов, кто хранил память о нескольких поколениях предков. Он смеялся, довольный, но сетовал, что нынешние плебеи стали настолько хитрее, что заранее чувствуют опасность и пытаются задавить всех "помнящих" в зародыше. Не оттого ли его невинное хобби кажется нам обоим крамольным?
— Заходи, когда вернешься, — зовет он.
— Наверно, не смогу. Надо будет сразу в Ленинград, к семье.
— А как же твои курсы?
— Кончились год назад.
— Дали они тебе что-то? Получил диплом? Теперь сможешь работать редактором? Кажется, у нас в редакции открывается вакансия. Хочешь я разузнаю?
— Не трудись, меня не возьмут. Кого-нибудь из моих однокашников — это да. Там были ребятки пострашнее Кочетова, Ермилова и Дымшица вместе взятых. Жди! Уж они твою полупатрицианскую задницу вытеснят из редакторского кресла.
— Ну и хорошо, — усмехается приятель. — Надоела лямка до смерти, а самому уйти — духу не хватает. Вышибут — я тогда дедом по матери займусь. Похоже, интереснейшая была личность.
Так все же изменилась Литературная империя в послесталинскую эру или нет? Судя по неслыханному успеху "Театрального романа" и "Мастера и Маргариты", не изменилось ничего: все узнаваемо до слез, все читаешь, как про сегодняшний день (написано в 1980-м). И лишь в одном есть разница: исчез из нее булгаковский взор, исчез взгляд пришельца из иного мира, взгляд "помнящего". Перемена, казалось бы, едва заметная, но — коренная.