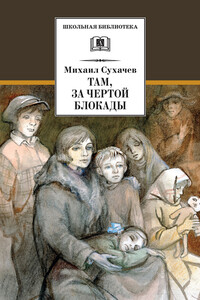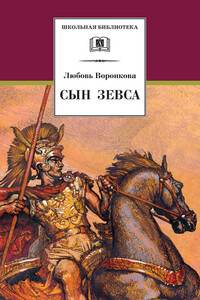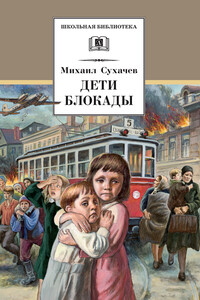«Я встретил вас…» | страница 39
Всегда интересны свидетельства современников о тайнах творчества поэта. Вот, например, что писал о них И. С. Аксаков: «Поэзия не была для него осознанною специальностью… общественным, официальным положением или же такою обязанностью, которую и сам поэт… признает за собой, признают и другие за ним»; «Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по профессии»; «Его поэзия… вполне субъективна; ее повод – всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли; она не способна отрешаться от личности поэта и гостить в области вымысла, в мире внешнем, отвлеченном, чуждом его личной жизни. Он ничего не выдумывал, а только выражался»; «Из глубочайшей глубины его духа била ключом у него поэзия, из глубины, недосягаемой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека…».
«Чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле», – писал Тютчев, в афористичной формуле определяя истоки своей поэзии. И сам старался никогда не забывать эти истоки.
В поэзии Тютчева шестидесятых годов XIX века во многом отражено отношение поэта к происходящим тогда событиям, и, в частности, к борьбе славянских народов за свое освобождение. По убеждению Тютчева, Россия должна была стать «стеной», защитой для балканских народов от иноземных захватчиков. Об этой «стене» он писал, например, в своем стихотворении «Славянам» («Они кричат, они грозятся…»):
Вспоминается, что как раз эти и другие тютчевские стихи наиболее сильно звучали во время Великой Отечественной войны, придавая мужества воинам нашей армии и напоминая им про любовь Родины-матери. Стихи читали и в тылу, и нередко на передовой, о чем в советской мемуарной литературе неоднократно упоминалось.
Последние годы жизни поэта были связаны со многими утратами. Смерть унесла мать, старшего сына, внучку Марию, младшую, самую любимую дочь, наконец, всю жизнь покровительствовавшего ему старшего брата Николая. Тютчев устал от смертей…