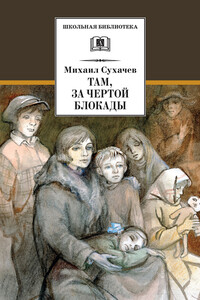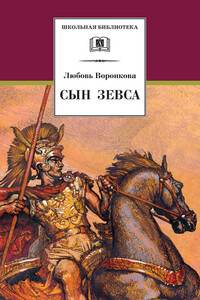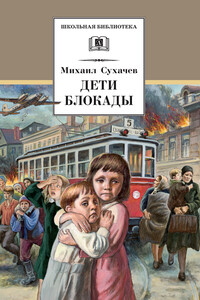«Я встретил вас…» | страница 37
И потом Иван Сергеевич подробно описывает Анне все последующие встречи с ее отцом и его реакцию на их предстоящий брак. 1 октября он пишет: «Меня очень, очень радует, что Федор Иванович доволен, что он рад, что эта радость его несколько умиротворяет. Мне бы хотелось, чтобы он меня любил, но я думаю, что ни ему, ни мне не к лицу насиловать наши отношения на короткие прежде времени…»
12 января 1866 года состоялась свадьба в небольшой домашней церкви на Поварской улице. Тютчев из Москвы, как всегда, подробно описал весь ритуал свадебного обряда в письме жене в Петербург: «В очень хорошенькой домовой церкви было не более двадцати человек. Было просто, прилично, сосредоточенно… Когда возложили венцы на головы брачующихся, милейший Аксаков в своем огромном венце, надвинутом прямо на голову, смутно напоминал мне раскрашенные деревянные фигуры, изображающие императора Карла Великого. Он произнес установленные обрядом слова с большой убежденностью, – и я полагаю или, вернее, уверен, что беспокойный дух Анны найдет наконец свою тихую пристань…»
Поэт гармонии и красоты
Во второй половине XIX века в русскую словесность начало входить новое философское понятие – так называемое космическое сознание. К небольшому числу избранных – высокоинтеллектуальных людей, обладавших «космическим» сознанием, – причислили и поэтов, среди которых одно из главных мест отвели Федору Ивановичу Тютчеву. И сделали это раньше других сами поэты.
Одним из первых сделал это Афанасий Афанасьевич Фет, так описав свое впечатление от стихотворений Тютчева, вышедших впервые отдельной книжкой в 1854 году: «Два года тому назад, в тихую осеннюю ночь, стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза, и по мере того, как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали во глубине еще тончайшие блестки и мало-помалу всплывали в свою очередь. Ограниченные темными массами стен, глаза мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева. Можно ли в такую тесную рамку (я говорю о небольшом объеме книги) вместить столько красоты, глубины, силы, одним словом, поэзии! Если бы я не боялся нарушить права собственности, то снял бы дагерротипически все небо Ф. Тютчева с его звездами 1-й и 2-й величины, т. е. переписал бы все его стихотворения. Каждое из них – солнце, т. е. самобытный светящий мир, хотя на иных и есть пятна; но, думая о солнце, забываешь о пятнах».