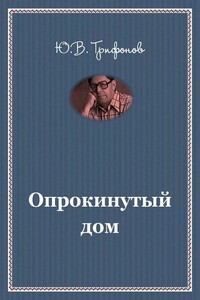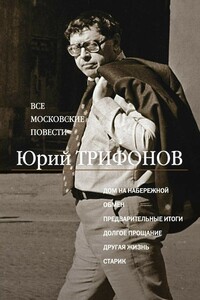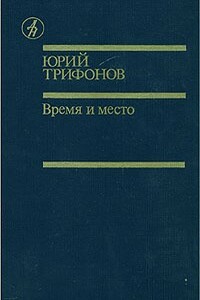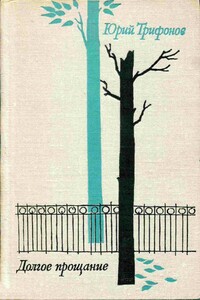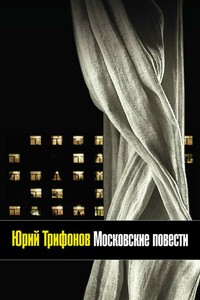Как слово наше отзовется… | страница 9
И вот, понимая всю эту непримиримость, Трифонов все-таки берет на плечи неподъемную ношу: он пишет быт интеллигенции. Пишет — в прозе. Отсюда глубина и внутренняя трагичность его повестей. Пишет — пытается объяснить себе — и в публицистике. Отсюда внешняя противоречивость его интервью, статей и высказываний.
Противоречивость ситуации иногда заставляет Юрия Трифонова лукавить в ответах на эти вопросы совершенно невообразимым для его характера образом. Прочтите под этим углом зрения беседу писателя с литературоведом Анатолием Бочаровым — поразительная драматургия. Едва Трифонов начинает вслед за Тургеневым рассуждать о «читателях талантливых» и «читателях средних», Бочаров напоминает ему — не для того, чтобы «поймать», а просто из ученой добросовестности, — что теория «героев» и «толпы», вообще говоря, уже существует; услышав эти слова, Трифонов мгновенно пресекает разговор, поворачивает его в другое русло: «мы немного отвлеклись»… — жупелы «слов» подстерегают его боль на каждом повороте.
Теперь попробуем понять и тот странный тип письма, который Ю. Трифонов постоянно защищает в своих размышлениях о литературном труде: писание «без плана», «без замысла», на ощупь — полуслепое протискивание сквозь материал, неустанное перемалывание его, мучительное многописание, многократное прощупывание бесконечных подробностей и мгновенные догадки, как при пробуждении от сна. Понятно, почему Трифонов с таким облегчением воспринял совет (при начале работы над биографией Желябова): держитесь подробностей. Ситуация формально неразрешимая: интеллигент, чтобы осуществить свое предназначение, должен раствориться в «остальной жизни» — он должен перестать быть интеллигентом как чем-то отдельным. Трифонов уходит в толщу «подробностей» — от этой формальной неразрешимости.
И толща «подробностей» дает ответ — не отвлеченный, а жизненный, — потому что Трифонов, погружаясь в «слепой материал» своих повестей и романов, твердо знает, какой именно вопрос он хочет задать «материалу».
Вечный, «проклятый» русский вопрос: о смысле, который сокрыт в этой жизни. Он сокрыт. Но он есть.
В системе бытийных координат, означенных Трифоновым с предельной лаконичностью: время и место, — его больше тревожит пункт первый. Время. Почему?
Сравним эту позицию с позицией писателей противоположного опыта: с тем, как ориентированы Шукшин, Белов, Распутин. Для них время — не проблема, оно «дано» изначально; кажется, что герои Шукшина, Белова и Распутина живут в едином, нерасчлененном, вечном времени — независимо от того, взято ли оно на глубину тысячелетнего исторического «лада» или на сегодняшнем срезе. Истинная проблема здесь — место, выбор места: деревня или город? здесь или там? та или эта почва?