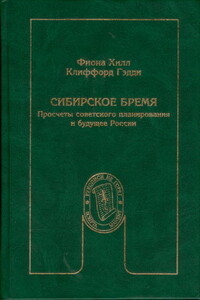Общественный организм (введение в теоретическое обществоведение) | страница 11
Соответствующую роль в познании человека на протяжении веков играла философия — с тем, однако, отличием, что объект изучения оказался не на один порядок сложнее. Прямая подстановка человека как личности в «центр мироздания», как и подстановка Земли в центр мира, не могла дать на каждом этапе результатов, достаточно длительное время согласующихся с общественным опытом. Потому нужда во всеобщей организации знаний заставляла на протяжении веков вновь и вновь создавать новые системы. Великие философы совершали научный подвиг, хотя бы временно приводя в соответствие общетеоретические представления с наличным объемом знаний, каждый раз с их учетом восполняя в новой системе ложность исходных мировоззренческих установок. Затем все повторялось, и очередная система входила в противоречие с опытом. И чем глубже становилось указанное противоречие, тем больше «систем» создавалось, и тем меньше они отвечали своей объективной цели, постепенно превращаясь в простую «игру ума», получающую все более широкое распространение. Как с иронией писал Энгельс, «самый ничтожный доктор философии, даже студиоз, не возьмется за что-либо меньшее, чем создание целой “системы”»15.
Собственно же философская проблематика начинается фактически со становлением категории идеального, само появление которой вызвано именно невозможностью понять явления, связанные с общественным человеком, исходя из свойств самого человека как индивида. В понятии идеального как бы конденсируется все то, что не вписывается в принятую «всеобщую парадигму» с человеком как личностью в «центре мироздания». Это одинаково относилось как к идеалистической, так и к материалистической философии. В системах объективного идеализма от Платона до Гегеля «общественная субстанция» во многом справедливо, хотя и в мистифицированном виде представлялась как «исторически развитая система культуры, противостоящая индивиду как иерархически организовавшаяся система всеобщих норм», как «особая, неприродная объективность, объективность социальных установлений и учреждений их охраняющих», которая детерминирует «деятельность индивида в любой сфере … его поведение и мышление в единичных ситуациях гораздо строже, нежели непосредственно-индивидуальные желания, мнения и импульсы»16. Домарксов же материализм отличался упрощенной «объективизацией» «общественной субстанции», тем, что «в категорию “объективной реальности” здесь попадает все то, что существует вне и независимо от индивидуальной души: в том числе и коллективный “разум” общественно-человеческого организма, исторически сложившиеся всеобщие формы деятельности самого мышления в том числе. Так что психологический анализ “души”, приводящий к выводу о существовании “всеобщих форм” вне этой души, не только не разрешает кардинальной проблемы философии, но как раз ставит ее во всей остроте»17. Поэтому раньше или позже системы, базирующиеся на таком подходе, приходили в противоречие с реальностью, и должны были заменяться новыми.