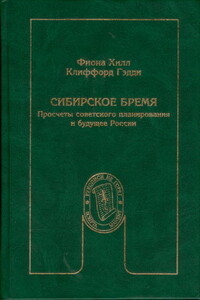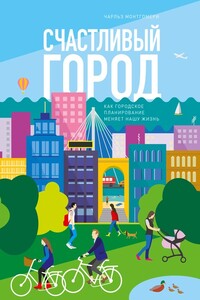Общественный организм (введение в теоретическое обществоведение) | страница 12
Однако суть дела не меняется и в том случае, если философия будет названа «диалектическим материализмом», а идеальное понято как «представленная в вещи форма общественно-человеческой деятельности»18, ибо при этом все равно не имеется в виду наличие некоторого, несводимого к индивиду целого, а только речь идет об «опредмеченных» результатах деятельности множества других индивидов, для реального функционирования «распредмечиваемых» все тем же индивидом; в таком понимании «общественный организм» есть не функционирующее целое, а всего лишь «”культура” данного народа»19. Именно из-за «компенсационной» роли философии в ней оказалось невозможным обойтись без этой особой, важнейшей для нее категории идеального как чего-то, что связывает единичного человека с его всеобщностью – как в геоцентрической системе мира нельзя было обойтись без эпициклов и деферентов. Соответственно и «за философией, изгнанной из природы и из истории, остается, таким образом, еще только царство чистой мысли, поскольку оно еще остается»20. Только с принятием верной точки отсчета в виде общества как исходного единого целого необходимость в таких компенсационных механизмах отпадает. Но тогда вообще полностью лишается всяких оснований философский подход, и появляется возможность столь же полностью поставить исследование «феномена человека» (как и всего того, что с ним связано) на естественнонаучную основу.
Итак, каждая новая философская система, действительно заслуживающая такого имени, временно разрешала противоречие между ложными исходными методологическими установками и опытом, но чрезвычайная сложность объекта раньше или позже приводила опять к их расхождению, приходилось создавать новую систему, в который раз снова — и опять же временно и частично — решающую эту важнейшую задачу. Возникновение марксизма как научной теории, покончившее с отрывом теоретического мышления от практической деятельности, сняло проблему, но одновременно покончило и с тем видом «общественного сознания», для которого эта проблема составляла основу. Однако это вовсе не значит, что предыдущие усилия философов пропали зря. Конечно, «философия … имеет склонность … замыкаться в свои системы и предаваться самосозерцанию… Но философы не вырастают как грибы из земли, они – продукт своего времени, своего народа, самые тонкие, драгоценные и невидимые соки которого концентрируются в философских идеях»21. Каждая новая система в определенных пределах давала временную основу для продвижения вперед в познании мира, попутно же решался ряд важнейших задач, наполняя сокровищницу знаний — так бессмысленные по своей сути поиски алхимиками «философского камня» нередко давали замечательные, подлинно научные результаты. Тем самым создавался фундамент для формирования науки как открытой системы знаний с относительно четким определением областей познанного и непознанного, принципиально исходящей из относительности и неполноты познаваемых истин, нередко противоречивой, но принципиально не ограничивающей решений возникающих задач наперед заданными рамками. С возникновением науки как системы (причем системы именно открытой) необходимость в специфической роли философии отпала — как в свое время именно благодаря ей отпала необходимость в мифологии как в предшествующем способе организации наличных знаний о мире. Но процесс познания сложен и противоречив. И как существует, говорят, еще где-то «Общество плоской Земли», так и те, кто в силу разных причин связал свою судьбу с философией, все еще пытаются находить всеохватывающие философские системы. Но к каким бы приемам они не прибегали, какой бы «современной» фразеологией не пользовались, сути дела это уже не изменит — философия как метод получения и организации положительного знания благополучно скончалась. Можно сколько угодно гальванизировать ее труп — к жизни ее уже не вернуть. Сегодня роль специализированного инструмента познания может выполнить наука и только наука, в этом отношении существенно отличающаяся от философии по своим основным характеристикам.