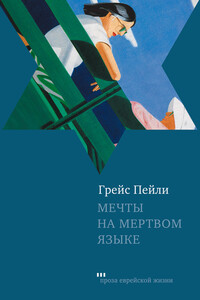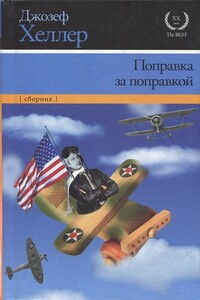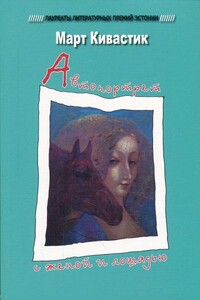Памяти Ахматовой | страница 19
И только раз мне видеть удалось
У озера, в густой тени чинары,
В тот предвечерний и жестокий час
Сияние неутоленных глаз
Бессмертного любовника Тамары.
В ответ Найману: что ей дьявол? Детская забава! Дьявол страшен нам, смертным. Диалог бессмертных о другом.
И я о другом. Ахматова не изменилась? Не выросла? Всю жизнь об одном и том же? Верно. Абсолютно верно. Смертному это срам. Божеству – самое оно.
Вот – самое красноречивое. На дворе 1914 год, так что рано идентифицировать персонажи:
Земная слава как дым,
Не этого я просила.
Любовникам всем моим
Я счастие приносила.
Один и сейчас живой,
В свою подругу влюблённый,
И бронзовым стал другой
На площади оснежённой.
В 1963 году она снова напишет:
Ты, верно, чей-то муж и ты любовник чей-то.
В шкатулке без тебя еще довольно тем…
В одной ли шкатулке?
Божественные голени не накачаны мускулами. Они нисколько не атлетичны. Они – правильной формы. Они напоминают обутые в крылатые сандалии ноги Гермеса. Они – легки и гармоничны. Скорее женские, чем мужские – хотя всяко бывает. Именно так распознал их Аякс Оилид. Пришло время привести полную цитату – в правильном переводе:
Первым меж ними узнал его сын Оилея проворный.
Тотчас он слово сказал Теламонову сыну Аяксу:
«Верно, Аякс, кто-нибудь из богов на Олимпе живущих,
Образ провидца приняв, нам сражаться велел пред судами,
Ибо то не был Калхас, прорицающий птицегадатель.
Сзади его я узнал, когда он уходил, по движенью
Голеней легких и ног: без труда узнаваемы боги».
Проворный – о проворном. У Минского и, пожалуй, у Вересаева, в отличие от Гнедича, голени легки, а не мощны. Так преодолеваются заблуждения.
Я, по молодости и дурости, сам не знал, во что ввязываясь, сочинив:
А впрочем, жизнь с Лаисой дорога,
И для обмена два залива квиты.
Подошва верхового сапога
Оплавилась у храма Афродиты.
Любой теолог подтвердит: в отличие от мага или гения, от смертного, божество творит легко – из ничего. Отталкивается от воздуха. Играючи меняет облик. Не предсказывает будущее, а просто знает его.
19
Вообще-то Ахматова сама все это сказала, спокойно и открыто. Кому? Читателю. Прежде всего, тому, кто тоже грешен (1940):
Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах все быть должно некстати,
Не так, как у людей.
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,