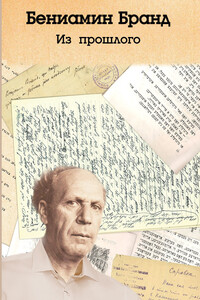Рудольф Нуреев на сцене и в жизни. Превратности судьбы. | страница 75
В классе или на репетициях концертов, в единственные моменты, когда мальчики и девочки танцевали вместе па-де-де, Рудольф предъявлял к партнершам не меньшую требовательность, чем к самому себе. Любая, не предупредившая его, на полпути рисковала быть сбитой с ног. Однажды, попробовав до начала занятий в классе рискованную поддержку из «Баядерки», он уронил испугавшуюся юную балерину, подняв ее над своей головой. Ученикам не разрешалось отрабатывать поддержки в отсутствие педагога, но Рудольф отказывался признать вину. «Она должна была мне помочь, и не помогла, — заявил он. — Я не собираюсь ее таскать».
Более надежной партнершей оказалась Алла Сизова. Гибкая, талантливая, с красивыми нежными чертами лица, похожая на Ингрид Бергман>80, она была звездой своего класса. За необычайно легкий парящий прыжок, длинные ноги и вдохновенный танец впоследствии ее прозвали «летающей Сизовой». На школьном концерте в июне 1957 года Рудольф и Сизова танцевали па-де-де Дианы и Актеона из «Эсмеральды». Рудольф руководил их выступлением, и они начали готовиться за несколько месяцев. Сизова жила у своего педагога Натальи Камковой. Каждый вечер Рудольф приходил слушать вместе с ней музыку на магнитофоне Камковой. Ему не особенно нравилась Сизова — он говорил Мении, что считает ее холодной и глупой, — и он, не теряя времени, утверждал свой авторитет. «Не забывай, — предупреждал он Сизову, — твой народ двести лет жил под татарским игом».
Вариацию Актеона Рудольф уже исполнял, но теперь он должен был танцевать целиком па-де-де с Дианой>81>82. Оно требовало тесного партнерства, было технически трудным и включало туры по диагонали с приземлением на одно колено, когда Актеон уклоняется от охотничьих стрел Дианы. Невзирая на недоверие Рудольфа, это выступление ознаменовало начало многообещающего партнерства.
За время третьего и последнего года пребывания в школе Рудольф разучил все значительные мужские вариации классического репертуара. Создал их в основном Петипа, балеты которого преобладали в афише Кировского театра. Учащимся-выпускникам предоставляли возможность репетировать в залах на пятом этаже, где пол имел точно такой же наклон, как сцена Кировского. Не менее важно и то, что Рудольф уже выступал перед публикой в самом Кировском театре — этой чести удостаивались лучшие выпускники. Начал он с принца в адажио из второго акта «Лебединого озера», а затем последовали восемь представлений «Щелкунчика». Но спектакли, в которых он танцевал — и о которых до сих пор говорят, — шли не в Ленинграде, а в Москве, в течение двух дней в апреле 1958 года. Каждую весну в Москве проходили выступления лучших в стране балетных учеников. Многовековое соперничество между Москвой и Ленинградом — а также между Большим и Кировским театрами — продолжалось на сцене Концертного зала имени Чайковского. В каждом городе был свой особенный стиль танца и его приверженцы. Если Москва гордилась бравурностью и атлетизмом, Ленинград видел в этом излишнюю пышность и показуху; если Ленинград славился непревзойденным лиризмом, изяществом и утонченностью, Москва объявляла его артистов холодными и академичными. Ленинградцы любили напоминать, что некоторые лучшие артисты Большого театра, включая саму Уланову, поначалу были звездами Кировского. Ленинград, место рождения русского балета, «по-прежнему считался окончательным арбитром вкуса, — вспоминает Панов. — Но когда после революции столицу перенесли, в Москве разместились министры, появлялись зарубежные гости — и тем и другим надо было что-то показывать. Поскольку балет еще служил властям «выставочным экспонатом», каким бы блистательным ни был Кировский, он больше не мог состязаться в престиже. В Большом бывал Сталин, а значит, туда текли деньги».