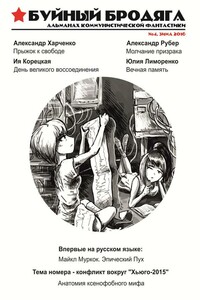Буйный бродяга 2017-2018 №6 | страница 81
Конец тридцатых годов. Финал Интербеллума. Канун Второй Мировой войны.
Жанр, в котором написана книга, пожалуй, не получится охарактеризовать одним-двумя ярлычками из колоды жанров коммерческой фантастики: это не «альтернативная история», не «криптоистория» и уж тем более не «историческая фантастика». Автор демонстративно отказывается от какой-либо связности и логичности творимого им мира: дело тут не в ссыльных царской эпохи, поющих «Возьмемся за руки, друзья», не в упоминании вируса Эболы в тридцатых — «альтернативная реальность» на то и альтернативная. Но в этой реальности теряются, собственно, образы главных героев, превращаясь в принципиально несобирающиеся пазлы, где каждая новая сцена только вносит дальнейшую путаницу. К примеру, с первых же строк книги мы узнаем, что главному ее герою (аналогу пикулевского «человека без имени», но по дипломатическому ведомству) в 1938 году пятьдесят девять лет. Это дает дату рождения — 1879 год. А затем упоминается, что из гимназии он выпустился аккурат после Цусимы — в 1905. В двадцать шесть лет. Себе же образца 1920 года наш «человек без имени» дает такую характеристику — «молокосос, деревенский тюня-лапоток». Это сорокалетний образованный мужчина, участвовавший, ни много ни мало, в плехановском «Освобождении труда» (не спрашивайте — Плеханов здесь тоже очень альтернативный). Такое нагромождение противоречий, ясное дело, является результатом сознательной тактики: находясь на не самой уютной для себя территории, автор сразу же показывает кукиш любителям искать заклепки неправильной формы, что составляют весьма весомую и влиятельную часть поклонников книжек про попаданцев и черных томиков «Яузы». С другой стороны — это сигнал для каждого потенциального читателя: не ищите в сюжете связности и логики, «книга вообще о другом», как любят оправдываться писатели, уличенные в непонимании темы своего творчества или литературной беспомощности. И пусть читателя не обманывают вставные главки в стиле «информации к размышлению» из романов Юлиана Семенова — книга эта действительно не об СССР тридцатых, не о Сталине и сталинизме, не о дипломатических играх накануне Второй Мировой. То, что в романе проделывает Рыбаков, укладывается в рамки отношения современного обывателя к историческому промежутку, что зовется сталинской эпохой.
Существует в общественном восприятии сталинизма и самого Сталина один удивительный, на первый взгляд совершенно непостижимый парадокс. В каждом современном книжном магазине два-три стеллажа отведены под тематическую литературу. Пестрят цепляющие глаз названия: «СТАЛИН — БОГ-ИМПЕРАТОР ИЗ МАШИНЫ», «СТАЛИН — НАСЛЕДНИК ДОМА РОМАНОВЫХ», «СТАЛИН ПРОТИВ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ», «СТАЛИН ПРОТИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ», «ПУТИН — ЭТО СТАЛИН СЕГОДНЯ», «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЯЙЦА СТАЛИНА», «СТАЛИН И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ», «ВОЗВРАЩЕНИЕ СТАЛИНА»… К каждой годовщине пакта Молотова-Риббентропа, к каждому дню рождения и смерти знаменитого специалиста по языкознанию медийное пространство лихорадит от пустопорожних дискуссий. Чуть ли не каждый конфликт хозяйствующих субъектов в современной России, в результате которого тот или иной деятель бизнеса, политики или культуры оказывается за решеткой, сопровождается разговорами про «новый тридцать седьмой» (скорбными стенаниями — из угла либералов огоньковской закалки и торжествующими визгами — со стороны «державников» на государевой службе). Словом, очевидно, что в России по популярности Сталин обошел и Битлз, и Иисуса Христа. Но вместе с тем, при всем медийном ажиотаже вокруг «отца народов», его идейное наследие (весьма обширное — тринадцать томов издано только до пятьдесят третьего года) оказывается совершенно невостребованным — хотя, казалось, уже одно имя обеспечит любому изданию сталинских работ стопроцентный коммерческий успех. Но нет — выпуском «дополнительных томов» сталинского собрания сочинений занимаются энтузиасты-дилетанты, а коммерческие издания представляют собой надерганные чуть ли не по абзацу компиляции казенных банальностей из эпохи банкетов и тостов и выдернутых из контекста отрывков внутрипартийной полемики. Можно с уверенностью сказать: самый узнаваемый персонаж в отечественной истории поразительно непопулярен в качестве мыслителя и теоретика, поразительно невостребован и несозвучен современности. Любой нынешний поклонник Сталина, заглянув в аутентичные тексты, не найдет в них для себя ничего цепляющего за живое — ни пассажей о величии белой славянской расы, ни апологетики православной империи, ни даже призывов к борьбе с еврейским заговором. После чтения книжек современных сталинских пророков вроде Старикова такой результат порядком разочаровывает, и в итоге возникает определенный запрос на «неизвестного», «тайного» Сталина, который никогда не был искренним революционером (революции ведь — это зло), а был, напротив, консервативным, патриотически настроенным религиозным обывателем. А спрос рождает предложение — так и возникают неуклюже состряпанные фальшивки вроде «беседы с Коллонтай», «политического завещания» или жанрово связанных с ними «дневников Берии». Фальшивки эти сварганены настолько топорно, что до конца в них мало кто верит — но хотят верить очень многие (как и в пресловутый «план Даллеса», который «не существует, но действует»). Документального жанра, разумеется, будет маловато — и появляется на рынке обширный пласт тематической художественной литературы, самыми характерными представителями которого являются пресловутые «попаданцы к Сталину». Мы смеемся и негодуем, глядя на патриотических реконструкторов с их влажными мечтами о железной руке в ежовой рукавице, на либералов, чьими стараниями порядком была обесценена память сотен тысяч жертв Большого Террора, но для людей, ломающих копья в интеллектуальных боях об истории нашего недавнего прошлого, в последнюю очередь имеют значение реальные беды и победы тридцатых-сороковых годов, реальные противоречия и конфликты этой эпохи. И книга Рыбакова — это крайняя форма литературной деконструкции сталинизма, декларативное и демонстративное его присвоение именем современной «патриотической общественности». Присвоение это идет достаточно примитивными путями — начиная с элементарного, с языка. Вот как разговаривают главный герой, высокопоставленный работник НКИДа, и Генеральный Секретарь ЦК ВКП(б), фактический лидер Советского государства: