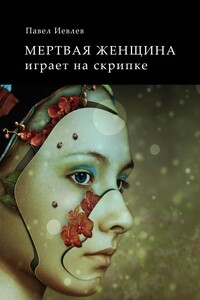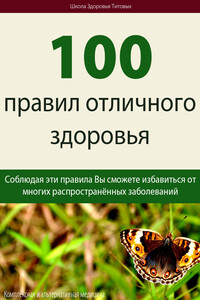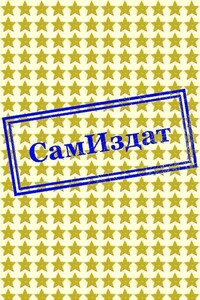УАЗДАО или ДАО, выраженное руками | страница 131
Через пятьдесят километров по одометру, когда город скрылся за горизонтом, мне стало казаться, что я на необитаемой какой-то планете. Хотя, если приглядеться, то следы технологической цивилизации можно было обнаружить без особого труда — прямые контуры лесопосадок лишь немного расплылись от самозасева, кое-где встречались артефакты в виде довольно ржавых металлических сооружений, более всего похожих на ЛЭП, причём одна из них лежала на боку, вросшая в землю и закрытая кустами так, что я чуть в неё не въехал.
Судя по состоянию упавшей опоры, люди здесь присутствовали скорее в смысле археологическом. Этому трудно было не удивляться — такое запустение было чрезмерно даже для самого экологически повёрнутого социума. Отсутствие объектов тяжёлой индустрии ещё можно было понять — постиндастриал, нанотехнологии, вот это всё, — но куда делось сельское хозяйство? По ряду признаков можно было догадаться, что ещё недавно оно тут было — степная зона, по которой я ехал, визуально разделялась на прямоугольники, которые не могли быть ничем другим, кроме как бывшими полями. Теперь же по ним невозбранно бродили какие-то копытные, издалека похожие на оленей. Близко они меня не подпускали, уносясь прыжками в лесопосадки. Один раз я спугнул из кустов семейство кабанов, а уж лисы и зайцы резвились совершенно свободно везде. Нормальный природный биоценоз средней полосы, ничуть не похожий на национальные парки и прочие заповедники. И что ещё любопытно — если ехать по такой же местности в нашем мире, то каждые двадцать-тридцать километров будешь натыкаться на деревню, а тут — ни одной. Хотя, с другой стороны, если сельского хозяйства нет, то какие, нафиг деревни? А нет деревень — нет и дорог, отсутствие которых меня тоже сильно удивляло. Однако больше всего напрягало не это безлюдье — оно мне только на руку, — но то, что я понятия не имел, насколько правильно я еду.
В реальной местности, даже такой плоской, как степная, невозможно постоянно ехать по компасу. Приходится объезжать рощи и посадки, уклоняться от оврагов, и вообще немало маневрировать. Я, конечно, старался каждый раз возвращаться на намеченную траекторию, но даже небольшие ошибки навигации имеют свойство накапливаться. Так что дорогу я встретил с большой радостью.
С первого раза я её чуть не проскочил, приняв за очередную неровность рельефа, однако вовремя заметил остатки ограждения. Остатки незначительные — несколько столбиков, одна поперечина… Всё ржавое, но не очень — стойкая краска успешно сопротивлялась времени и непогоде. Скорее всего, остальное ограждение было просто демонтировано, а не рассыпалось в прах. Вообще, я себе отметил, что количество артефактов индустриального века было гораздо меньшим, чем могло бы быть, если бы всё хозяйство просто бросили. Картины постапокалиптического хаоса и разрушения тут не было, только отдельные фрагменты, почему-то не разобранные и не утилизированные вместе с остальным. Неужели такое плановое «возвращение к истокам»? Хорошо хоть асфальт соскребать не стали — дорога, хотя и заметённая листвой и грязью так, что уже начал завязываться плодородный слой, оставалась дорогой. Причём, если я не сильно промахнулся с азимутом, то шла она как раз в нужном направлении. Судя по рельефу, шесть полос минимум, плюс разделитель, от которого и остались фрагменты металлоконструкций. По нашим меркам — магистральное шоссе федерального значения, по здешним — бог весть. Но катиться по твёрдой и ровной поверхности было спокойнее и быстрее, я набрал крейсерскую в 70. 70 на четверной передаче — это идеальный режим для УАЗа, уже быстрый, но ещё экономичный. Вполне можно укладываться в 12 литров на сотню. Однако через десятка два километров я почувствовал неладное: тяга падала, температура росла, машина перестала легко катиться. Сначала не сильно — я даже сомневался, не кажется ли мне, — но потом стало заметнее. Я врубил нейтраль, и УАЗик стал замедляться куда быстрее, чем ему следовало бы.