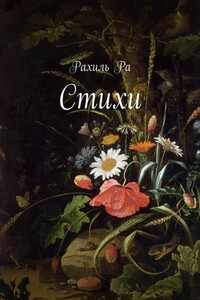Иншалла | страница 40
— Рядовой, ко мне, бегом марш! — Ухом увидел я командира части. Он не успел закончить приказа, как я рефлексом подкинул ему свой — и тоже с указанием направления. Так я впервые был откомандирован в Алёшинские казармы. Дисциплинарная обстановка. Сидишь как суточник — только 28 суток. Говорят, в этих казематах царская охранка держала Ленина(27). Я чувствовал, что наступаю Ильичу на пятки.
Маршировать я, конечно, и там не стал. Лейтенант молодой разбушлатился, давай из кожи вон мне сутки нанизывать. За каждое есенинское слово — трое суток ареста. Рот открываю — еще пять суток. Я ему возражение — он мне еще пяток. Я ему командировку — он меня на БАМ. Дошли до двадцати пяти суток. А я знаю, что ему по званию не больше пятнадцати мне впаять можно. Что сверх того, старшим офицерским чинам позволительно. Говорю, зови-ка, лейтенант, своих генералов, а маршировать ты сам будешь. Обработал он меня, конечно, — отправил в камеру. Привели меня, положили на нары. Самостоятельно я не шевелился, похоже. Приходит от него полковник — молодой, длиннющий, худой, как обморок. В камере 17 человек. Дверь выходит в узкий каменный коридор. Командует:
— На счет «раз» всем покинуть камеру. А-а-а-рррррр-а-а-а-а-ззззз!!!
Он еще не закончил, а 16 человек уже стояли вдоль стены коридора. От напора слетел с кого-то кирзач и валялся в дверном проеме.
— Сколько заключенных в камере? — Спрашивает.
— 17.
— Я насчитал 16.
— Один больной, привели только что. Лежит на нарах.
— Явиться в канцелярию.
Явиться я, конечно, не мог. Приготовился лежа к обороне. Но борщить не стал полковник. Забыть решил обо мне. Пока мясо на кости не нарастет.
Но выпущенную стрелу остановить невозможно. Я объявил войну Вооруженным Силам Советской Армии. Двух победителей в ней быть не могло. Любыми возможностями я приближал развязку. К тому времени я пережидал в автобате перевода в другую часть. Меня хотели определить как водителя — что-нибудь перевозить подальше, чтобы хоть как-то изолировать от меня уставных солдат. Но слух обо мне шел впереди — и меня никуда не принимали. Я был бешеным жеребцом, не дававшим себя оседлать. При одном виде узды я вставал на дыбы. Но уже шкурой чуял — мне готовят клеймо. Запах каленого железа носился в воздухе.
Незадолго до этого одна неприятность вышла. Утром перед умывальником заметил в зеркале пролысину над левым ухом, будто лишай выстригли. Во всей части я один не признавал армейской машинной стрижки, а потому выеденная за ночь плешь на лохматой голове была слишком заметна.