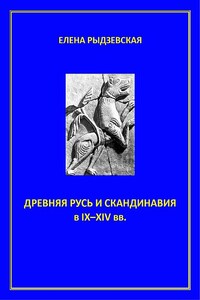Зверь из бездны том IV (Книга четвёртая: погасшие легенды) | страница 44
— Торкват правильно понимал, что он слишком виноват и ему нельзя надеяться на оправдание. Но он напрасно поторопился, не выждав милосердия судьи: я бы его помиловал и оставил жить.
Лгал он или нет, — сказать трудно. Хотя есть тот прецедент, что десять лет назад, когда Агриппина умертвила брата Торквата, М. Юния Силана, Нерон высказал свое неудовольствие, что убивают столь знаменитых людей без его ведома и против его желания.
В рассказе Тацита о смерти Силана чувствуется что-то тенденциозно неискреннее и недоговоренное. Он заметно комкает и замалчивает данный эпизод, вслед за которым, в непосредственной с ним связи, говорится о внезапном отказе Нерона от путешествия в Ахайю и Египет и быстром возвращении из Бриндизи в Рим — по причинам, оставшимся неизвестными. Обыкновенно Тацит не любит неизвестных моментов, и если таковые не объясняются объективным подбором фактов, то дает, по крайней мере, какие-либо субъективные предположения и толкования о них. Здесь он молчит и даже старается выказать доверие к влиянию на решение Нерона известного уже случая с ним в храме Весты (см. том III). Между тем из приводимого Тацитом манифеста цезарева весьма прозрачно следует, что в городе были какие-то смуты, явные или тайные, и именно их-то сила и настояла, чтобы цезарь не покидал Рима, — так как граждане, многозначительно гласит Нерон, «привыкли в лицезрении государя находить залог спокойствия против внезапных бедствий». Эта фраза ясно заключает в себе современный намек. Нерон с особенным удовольствием подчеркивает, что он остается по требованию римского народа, и Тацит глухими строками, свидетельствующими о полном недоверии простого народа к сенату и выборным магистратам, подтверждает радость черни, что Нерон не уехал. Наоборот, правящий класс пребывал в большем страхе, почитая неожиданную задержку Нерона в Риме признаком серьезной опасности, направленной против аристократов.
И действительно, заключение Неронова манифеста звучало в высшей степени демагогическим вызовом против знати: «Как в частных родственных связях наибольшее значение имеют ближайшие родственники, так в государстве наибольшую силу — римский народ, и я должен повиноваться ему, когда он удерживает». Манифест произвел хорошее впечатление на народ, а сенат и вельможи растерялись: «были в неизвестности насчет того, более ли он ужасен вдали или вблизи; отсюда, как это свойственно большим страхам, худшим считали то, что случилось».