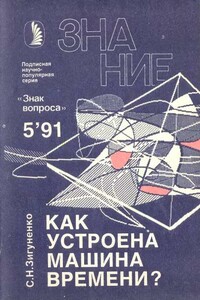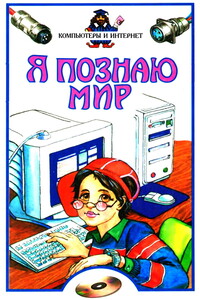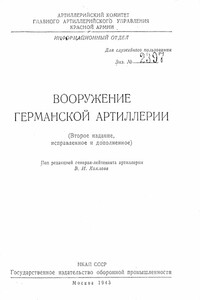Знак Вопроса № 2/95. По следам сенсаций | страница 12
В ЗЕРКАЛЕ ПРИРОДЫ,
или когда птицы похожи на ослов, ослы на людей, а люди бывают хуже волков
Об этих, а также о других случаях из жизни этолога или социального биолога рассказывает один из основоположников новой отрасли науки — действительный член Академии естественных наук, лауреат Государственной премии России Евгений Николаевич ПАНОВ.
Нынешний руководитель лаборатории сравнительной этологии и биокоммуникаций Института морфологии и экологии РАН далеко не сразу стал академиком, завлабом, автором нескольких десятков научных статей и монографий. Поначалу он просто избрал профессию биолога.
— Еще в школе я прочел книжку известного австрийского ученого Конрада «Кольцо царя Соломона», — рассказывал Евгений Николаевич. — Говорилось в ней не столько о мифическом кольце, которое, говорят, позволяло библейскому персонажу понимать языки животных, птиц и даже насекомых, сколько о том, как много может узнать внимательный человек из собственных наблюдений.
В книге на многочисленных примерах не только подвергалась сомнению главенствующая роль инстинктов в поведении «братьев наших меньших», но и наглядно показывалось, что животным свойственна немалая хитрость, если хотите, даже смышленость.
— Кстати, термин «младшие братья», вошедший в моду с легкой руки Сергея Есенина, неверен, — продолжает академик. — С точки зрения эволюции скорее мы, люди — младшие братья насекомых, птиц, животных. Многие их виды куда древнее «хомо сапиенс» …
Желание познать корни, истоки рода человеческого и привело Евгения Панова на биофак МГУ, на кафедру зоологии. Закончив университет, он распределился на Дальний Восток, в знаменитый заповедник Кедровая Падь. Но уже в дипломной работе молодой исследователь обозначил тему, которой оказалась посвящена вся его сознательная жизнь. Работа называлась «Этология — наука о поведении животных».
Потом он занимался орнитологией, работал на противочумной станции, на кафедре биологии II медицинского института. А последние двадцать с лишним лет занимается любимым делом в Институте морфологии и экологии.
Дело же это, говоря совсем уж упрощенно, таково. Долгое время в науке бытовало мнение: все тонкости поведения того или иного вида животных, их образ жизни, привычки, местообитание и т. д. направлены на максимальную целесообразность, приспособляемость к окружающей среде. Иначе жесткий естественный отбор тут же отбросит «еретика» на обочину жизни; у него практически нет шансов уцелеть, а тем более — дать потомство.