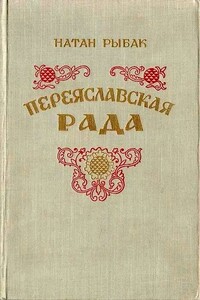Днепр | страница 56
В своем кабинете, погасив свет, стоял, облокотись на подоконник, Кашпур. Он задумался и не замечал, как под напором ветра качались верхушки тополей, как непрерывным шуршащим ливнем падали листья, как на темном горизонте сентябрьской ночи то вздувался, то опадал кровавый парус огня..
На краю села, у околицы, стоял подле своей старой хаты дубовик Саливон. Прядко и глубоко запавшими глазами смотрел в степь, где за оврагом колыхалось пламя. Ночь охватила старика тревожным предчувствием. Одинокая звезда мерцала на темном небе. Ветер ластился к ногам, шелестел в траве.
— Горит, — сказал громко Саливон. Он прижал руку к груди и снова произнес глухо: — В сердце горит.
Его мучила адская жажда. Она сушила не только грудь. Все тело горело нестерпимым огнем. Ночь была холодна и сыровата, но Саливон не чувствовал ни сырости, ни холода. Он видел в темном небе огромный парус пламени, и словно частица этого огня полыхала в его груди. Старик сел на землю, потом лег, томимый жаждою. Он больше ничего не говорил, губы его шевелились, но это были уже не жалобы. Лежал он на траве вытянувшись, непомерно длинный, подобрав под грудь руки, борода его путалась в бурьяне. Ветер перекатывал по спине деда опавший кленовый листок, надувал широкую белую рубаху, гудел в ушах. Но Саливон был далеко от этой ночи, от убогого садика, от выцветшей травы. Он весь был поглощен борением за жизнь, сгоравшую в нем сейчас последним, неугасимым пожаром.
Он вышел из хаты сюда в сад, поближе к земле и к реке, ему, всю жизнь шагавшему по запутанным тропкам, стало душно в четырех хмурых стенах.
Вступил Саливон на эти тропки, еще неся в себе юношеский задор. Вывел его отец, старый лоцман, мальцом на берег Днепра и показал на реку:
— Гляди, сынок, тут тебе век вековать…
Звонецкий порог гудел так, что земля дрожала.
Мальчик стоял молча, захваченный воплем бешеного водопада.
— Люби, сынок, воду, — поучал отец, — она и рассердится и приголубит.
А позднее отец говорил:
— Весь наш род — днепровский, лоцманский, славный род.
Любил Саливон реку. Любил днепровские просторы, тишину в майскую ночь, грохот порогов, синюю осеннюю зыбь.
Любил Саливон плавни, густые заросли камыша, легкий пушок над ними, тягу вальдшнепов, утиный плеск в заводях.
Любил, когда вода бушевала, как щепку, подкидывала плот, грозила смертью.
Но кончает собою славный лоцманский род дубовик Саливон. Верно, давно истлели тела тех, чьи голубые глаза, упругая походка сохранились и поныне в его памяти. Лежит он осенней ночью на выгоревшей от солнца сухой траве, лежит на земле, которую еще недавно топтал крепкими стариковскими ногами. Один он остался. Никого нет. Кому доверить свою последнюю печаль? Вокруг пустота, молчание. Хоть бы Марко был здесь. Уехал. Чужой, а в старом сердце Саливона запечатлелся навсегда. Этот выйдет в люди. Петро Чорногуз — бунтовщик, далеко мыслями заносится, он Марку поможет. Только бы сам не погиб, как птица, что слишком высоко взмыла, не рассчитав сил. Чует Саливон: последним пламенем догорает. А не хочется помирать. На что тогда было жить, топтать ногами землю, водить плоты по Днепру, беречь себя от смерти? Неужели для того, чтобы пропасть на заросшем берегу Днепра? Да, видно, нет уже возврата в мир, пройденный им. Саливон горячо дышал, согревая своим дыханием холодную землю. Пахла она отцветшим летом, полынной горечью, терпкостью осеннего умирания.