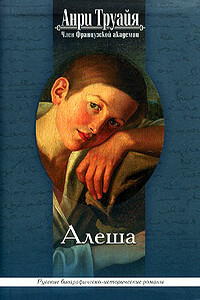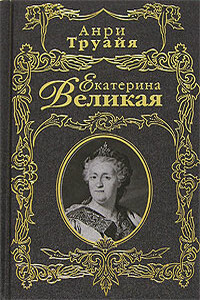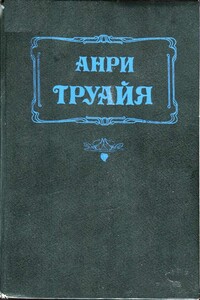Анна Предайль | страница 34
— Спасибо за укол, — прошептала Эмильенна, не открывая глаз. — Спасибо, дорогая.
Овладев собой, Анна сказала еле слышно:
— Теперь, Мили, все будет хорошо. Надо спать.
— Ладно... Вот, значит, что... Ты хочешь, чтобы я заснула... Дай мне руку... Сожми покрепче...
Совершенно разбитая, Анна присела в кресло у изголовья и взяла в ладони узкую безвольную руку матери. Ей вдруг показалось, что на лице Мили заиграла лукавая улыбка. Точно она все поняла, точно все одобрила. Потом эта счастливая гримаса исчезла с ее губ. И началось бесконечное ожидание в тишине и неподвижности, единственными свидетелями которого были вещи. Устремив взгляд на лицо Мили, Анна чувствовала, как медленно немеет ее собственное тело. Мозг ее наливался свинцом. Она забыла про отца, про Лорана. Существовала только она сама и совершенное ею. Эта ночь, видно, никогда не кончится. «Она выглядит сейчас такой спокойной! Достаточно ли я влила морфия? Почему же не наступает смерть? До чего же это долго тянется. До чего невероятно долго!»
А Мили была уже без сознания и храпела, приоткрыв рот. Казалось, в этом тщедушном теле работала машина — но работала с перебоями, прежде, чем остановиться навсегда. Внезапно в горле Эмильенны что-то забулькало, и она издала глубокий вздох. Веки ее приподнялись, глаза выкатились. Рот разверзся. Все кончено. Черты лица застыли. Ни рот, ни глаза уже не закрылись.
— Мама!
Анна упала поперек неподвижного тела. Она рыдала, прижимая к себе эту еще теплую голову, покрывала поцелуями лоб и щеки, которые уже не чувствовали ничего. Немного погодя, овладев собой, она закрыла глаза и рот покойной. Подвязала подбородок салфеткой. Мили обрела, наконец, вид спящей. Избавленной от боли, умиротворенной, исцеленной. Анна снова села в кресло. Прижавшись к спинке, она с недоумением и любовью рассматривала эту безразличную ко всему женщину, которая лежала на постели и для которой, казалось, началась новая эра.
Проснувшись словно от толчка, Анна приподнялась на подушках. Вот уже две недели, как она каждую ночь просыпалась в один и тот же час от одного и того же неотвязного видения. В сотый раз делала она укол в руку Мили. Иголка вонзалась в кожу. Жидкость медленно покидала шприц. Когда кого-нибудь любишь, сделаешь невозможное, чтобы избавить его от страданий. Даже если потом придется нести бремя страшной ответственности. И теперь, когда страдания Мили окончились, начались ее страдания, Анны. Не физические, а моральные. И не было такого наркотика, который помог бы ей избавиться от них! Если бы она хоть во что-то верила, то, наверное, не совершила бы этого. Хорошо верующим — они в своей трусости могут в любых обстоятельствах сослаться на церковную догму, позволяющую не принимать решения и избавиться от угрызений совести. Интересно, где она сейчас, своенравная, красивая, прелестная Эмильенна? На кладбище под слоем свежевырытой земли? Или же в некоем пространстве, населенном ангелами, купается в лучах господней благодати, о которой она никогда не молила? Или же осталась здесь, где жила, в сердцах тех, кто ее любил? Да, да, ее присутствие в доме чувствовалось повсюду: ее прикосновение осталось на вещах, ее дыханием был согрет воздух, мысли о ней не выходили из головы. Вся эта страшная комедия с катафалком, заупокойной службой и похоронами не смогла ее убить. Отделенная от них черными драпри с серебряной каймой, она не утратила связи с их повседневной жизнью. А вот отец, подумала Анна, не может это понять. Для него все оборвалось вместе с последним вздохом жены. Его отчаяние при виде покойницы было таким чрезмерным, таким театральным, что Анна даже вспылила, чтобы заставить его опомниться. А он вопил, бросался на труп Эмильенны, целовал ее холодные губы, дрожащими руками пытался приподнять ей веки. Потом не давал гробовщикам закрыть гроб. В церкви во время службы он едва не потерял сознание — сидел на стуле как мешок, тупо глядя в пространство, разинув рот. А весь этот ужас на кладбище, когда он рвался к вырытой могиле с криком: «Пустите меня... Я хочу вместе с ней!.. » Анна даже теперь со стыдом вспоминала об этом.