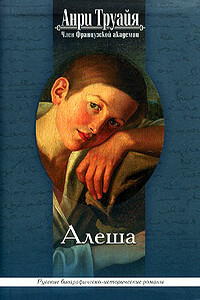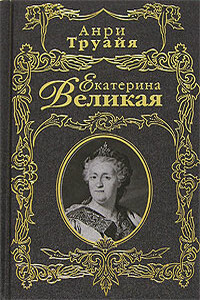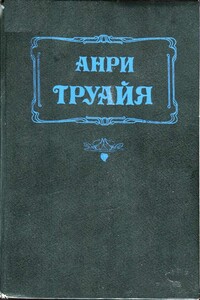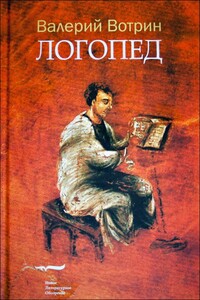Анна Предайль | страница 32
— Да, да, побудь со мной...
Эмильенна закрыла глаза. Анна села в кресло возле кровати, накинула на ноги плед. Вот уже третью ночь она проводила у постели матери. Отец не мог ее заменить. Он, конечно, вначале предлагал свои услуги, но она сумела внушить ему, что ей не нужна ничья помощь, и он смирился с ролью плаксивого очевидца. Конечно, он по-прежнему был в отчаянии из-за состояния своей жены, но это не мешало ему спать сном праведника на диване в гостиной. Анна могла приходить, уходить, зажечь все лампы, греметь кастрюлями на кухне — он не просыпался. Железное здоровье и беспечен, как избалованный ребенок! Таким образом, Анна одна встречала надвигавшуюся смерть. Впрочем, ей этого даже хотелось — из любви к Мили, из присущего ей чувства самопожертвования, из упрямства. Ничто больше не существовало в ее жизни — только страшное приближение конца. В этом мраке даже Лоран отошел на задний план. Правда время от времени она все же поднималась к нему наверх. Он ждал ее там, в своей берлоге, ничем не занятый, изголодавшийся по ней. Казалось, вся его жизнь свелась к ожиданию, когда шаги Анны раздадутся в коридоре. Едва она открывала дверь, как он набрасывался на нее. Несколько наспех сказанных слов, быстрые ласки — и она исчезала на лестнице. Мили была слишком плоха — ее нельзя было оставить даже на час. Анна позвонила на работу и взяла отпуск. Время в доме остановилось. Они были вдвоем с матерью — и никого между ними. Она одна будет бороться со смертью. Мили лежала, раскрыв рот, сомкнув веки, — она тяжело дышала, из груди ее вырывался хриплый свист. Ее длинные тощие, прозрачные руки лежали по обеим сторонам тела, плоского, как пустой конверт. Под простыней от плеч и ниже не просматривалось никаких выпуклостей. Разве только в самом низу — пальцы ног. А жизнь все еще трепетала в этом почти разрушенном теле. Да разве это жизнь — бесконечное страдание. Ради чего? Чтобы обратиться в ничто. И надо было присутствовать, сидеть сложа руки при этой каждодневной пытке. Ждать, когда природа доделает свое дело, тогда как любовь, милосердие и разум приказывали прекратить ужасную агонию. Как бог мог допустить, чтобы Мили пожирала эта медленная, неумолимая болезнь? А если он допустил эту чудовищную, слепую несправедливость, не следует ли пойти наперекор ему? Да, да, бывают случаи, когда человек обязан восстать, когда его священный долг — пойти наперекор судьбе. Навязать ей свою волю. Ради дорогого существа. Достаточно увеличить дозу морфия — и Мили заснет навсегда. Спокойно. С благодарностью. Анна думала об этом сотни раз. Но никогда еще так упорно, с такой трагической настойчивостью, как сейчас. Ей даже показалось, что она сказала об этом вслух. Но нет, просто в мыслях у нее был такой сумбур, что шум стоял в ушах. И каждый вдох матери отдавался в сердце. Зловещая неподвижность вещей завораживала ее и пугала; расширенными зрачками смотрела она на зажженный ночник, прикрытый розовым шелковым платком, на комод, заваленный иллюстрированными журналами, на матовый экран телевизора, на стол, где лежали Милины лекарства и рецепты, сколотые вместе, уже ненужные... Эта домашняя обстановка, которая должна была бы ее успокаивать, как ни странно, лишь порождала в ней страх. Она жила в кошмаре, где тени значили больше, чем предметы, а молчание — больше, чем голоса. Все это создавало у нее гнетущее впечатление. Мозг заволакивал туман. Она сжала зубы, вся напряглась, но не смогла сдержать потока слез. И уткнулась лицом в ладони. Чем больше она старалась не сдаваться, тем больше сгибалась под напором горя. В зловещей ночной тишине раздался еле слышный робкий звонок. Потом еще один. Звонили на черной лестнице. Анна бросила взгляд на мать, встала, вытерла глаза и вышла на кухню. Она уже знала, кого увидит за дверью. Какая нелепость! Она впустила в свою жизнь зверя, не властного над собой и неукротимого! Надо отослать его наверх. В его нору.